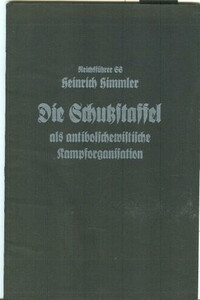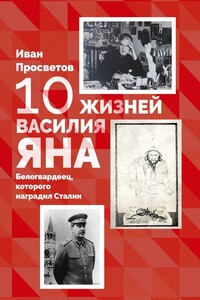Золотая нить Ариадны | страница 113
Успехи нашей разведки могли быть на порядок весомее, если бы не ошибки советского руководства, за которые пришлось платить жизнями сотен тысяч солдат и офицеров. Дело в том, что развернутая в стране кампания шпиономании и в разведывательном ведомстве породила нездоровую атмосферу: многие наши разведчики были взяты под подозрение, а поступающая от них информация подвергалась сомнению.
Так, например, после доклада Сталину сообщения Рихарда Зорге о том, что он получил доступ в сейф германского посла в Японии, Верховный Главнокомандующий сказал: «Это дезинформация. Из всех немцев можно верить только Вильгельму Пику».
Некоторые руководители разведки и резиденты были репрессированы. Все это имело печальные последствия. Часто задают вопрос: чем объяснить недоверие И. В. Сталина к информации ряда наших разведчиков о возможном нападении Германии в мае-июне 1941 года? Прежде всего следует сказать, что Сталин лучше других знал, что страна еще не готова к надежной обороне, и все делал, чтобы оттянуть войну и не дать повода для провоцирования агрессии. Придавалось значение и тому факту, что ни один из наших разведчиков не имел доступа к официальным документам с указанием точной даты нападения Германии на Советский Союз. Не последнюю роль сыграли и дезинформационные мероприятия со стороны Германии, спецслужбы которой имели в этом деле колоссальный опыт. Какое значение немцы придавали дезинформации, можно судить по такому факту. Нашей разведке немцами был подставлен агент Лицеист. Дезинформационные материалы, передаваемые через него, просматривались лично Гитлером и другими руководителями рейха.
Наверняка, негативную роль сыграла и подозрительность И. В. Сталина, порожденная кампанией по борьбе с «врагами народа» и постоянно подогреваемая угрозами со стороны Л. Троцкого.
Однако это уже другая тема… Жаль только, что мы продолжаем наступать на те же самые грабли. Например, достоверно известно, что наша внешняя разведка заблаговременно предупреждала российское правительство о предстоящем дефолте 1998 года. Однако эта информация были проигнорирована, и в результате мы получили то, что мы получили.
Такое вступление общего плана мне потребовалось для того, чтобы показать расклад сил в противоборстве спецслужб Германии и Советского Союза накануне войны, поскольку работу воронежских чекистов в годы войны нельзя рассматривать изолированно, как, естественно, и действия германских, венгерских и итальянских спецслужб на воронежском направлении, где функционировали десятки их подразделений. Наиболее активной была Абвергруппа-105, имевшая штаб-квартиру в с. Сомово Землянского района с подразделениями во всех оккупированных районах области — т. н. мельдекопфы. Мельдекопф «Бруно» под командованием капитана Шульца действовал в Воронеже. Кроме того, в оккупированных районах размещались абверовские команды, службы безопасности (СД), полевой жандармерии. В селе Старая Ведуга при штабе воинского соединения функционировал разведотдел, полевая жандармерия и тайная полиция. В правобережной части Воронежа были открыты курсы подготовки шпионов. Такие же курсы были в Нижнедевицком районе. Такая концентрация разведывательно-диверсионных органов под Воронежем является косвенным подтверждением тому, какое место в планах немецкого командования отводилось воронежскому направлению и, в частности, в реализации стратегической операции «Тайфун». Задачи, стоявшие перед немецкими спецслужбами, мною уже названы. Может быть, следует еще добавить распространение панических и пораженческих слухов. Согласитесь, что в условиях оккупации, когда нет никаких источников получения правдивой и объективной информации о реальном положении дел на советско-германском фронте, дезинформация противника зачастую принималась жителями области за истину. Не последнее место в деятельности спецслужб Германии занимало выявление партизан, подпольщиков, коммунистов и евреев.