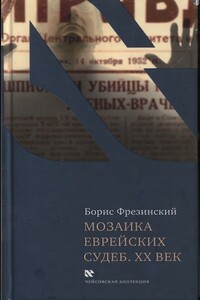Скрещенья судеб, или два Эренбурга (Илья Григорьевич и Илья Лазаревич) | страница 14
Первый (ноябрьский) номер журнала вышел из печати в конце декабря 1913 года. Тираж был вполне респектабельно отпечатан в русской типографии И.Рираховского (бульвар Сен-Жак, 50). Номер открывался по-бальмонтовски высокопарным предисловием редакции («„Гелиос“ служит Песне в ее стремлении вперед. Он отражает усилия современников приблизиться к Солнцу. Он хочет сказать всем, кто любит Светило, кто грезит о Свете, кто живет Солнцем: „Слушайте Песню, что царит над миром, и славьте с нами великий Пламень — Солнце“…»). Статья А.В.Луначарского «Отец художественной критики», открывавшая содержательную часть журнала, была посвящена двухсотлетию Дидро; далее следовали статья О.Лещинского «О футуризме» (с обещанным продолжением) и его стихотворение «Пьеро». В номере в переводе с французского были напечатаны «Заветы моим ученикам» Бурделя и статья Я.Тугендхольда о народном творчестве на Осенней выставке в Париже, а также литературные упражнения скульптора Инн. Жукова и многочисленная художественная хроника.
Эренбурга были представлены в номере так:
Илья Григорьевич — стихотворением «Гаснет день чахоточный и хилый» и статьей «Заметки о русской поэзии», в которой он пытался представить обзор современной русской поэзии — кризис символизма и его преодоление новыми авторами.
Илья Лазаревич, укрывшись за подписью И.Эль, выступал с поэтичными «Осенними мыслями» (статьей, навеянной предстоящим Осенним салоном в Париже). Последовательный поклонник Сезанна, не понаслышке знакомый с работой и жизнью парижской художественной богемы, он размышлял над судьбой едва ли не ежегодно появлявшихся в Париже новых школ: «Откроет ли новая школа эру в истории искусства или о ней забудут уже к весне? Останется она в благодарной памяти или неблагодарные эпигоны будут смешивать ее в своем невежестве с живописью прошлого сезона? Головокружительная быстрота, с которой пророки сменяют друг друга, жажда, с которой художники, критика и публика хватаются за всякую новую формулу, жар, с которым защищается всякое новое слово, даже когда оно этого совсем не заслуживает по своему внутреннему содержанию, незаслуженное и злобное высмеивание, с которым покидают это новое слово, чтобы ухватиться за другое, еще более новое — все это признаки лихорадки, признаки болезни и хаотичности современного состояния искусства». Критикуя «сегодня» нового искусства, И.Л.Эренбург глобальные надежды на его «завтра» связывал с общественным обновлением, с социализмом: «Если общее состояние современного искусства и современного общества наводят на грустные размышления, если они приводят меня к выводу, что новый расцвет возможен только при новых, совершенно изменившихся условиях жизни, — то в рамках настоящего общества все же должна быть борьба за искусство. Эта борьба будет продолжаться, т. к. жажда красоты никогда не умирает»…