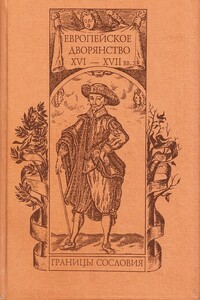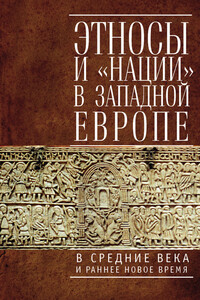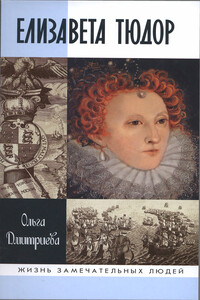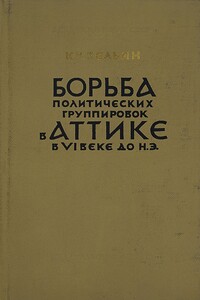Варфоломеевская ночь: событие и споры | страница 93
Реликвии придавали трансцендентное измерение общинному воображению парижан. Аналогия между поклонением реликвиям и культу святой гостии вытекала из самой природы корпоративного католицизма. Секретарь Ратуши делает поэтому весьма характерную оговорку, описывая генеральную торжественную процессию, организованную королем, "в которой несли прекрасные реликварии — в особенности святое причастие с алтаря, святой терновый венец и крест победы"[277]. Обычно реликвия воспринималась как дополнение к Corpus Christi или как его субститут. Главной задачей была наглядная демонстрация вечного соучастия общины в таинстве божественной жертвы. Распространенные в ту пору верования не делали различия между таинствами (установленными Христом и дающими благодать) и сакраменталиями (установленными церковью и дающими лишь духовный эффект)[278]. Столь характерная для Парижа "процессия-месса" осмыслялась как своего рода причастие святыми (т. е. как трансцендентная связь, объединяющая как живых, так и мертвых членов "общины верных" в единое мистическое тело, глава которой — Христос) и вселяла уверенность в божественном вмешательстве. На исходе средневековья этот общинный аспект мессы обрел столь яркий коллективный смысл, что позволял, в частности, использовать литургию для демонстрации отношения к "врагам". В Париже во время процессии по случаю сожжения "врагов католической веры" (catolice fidei inimicis) в 1549 г. купеческий прево разъяснял королю, что парижанин не может быть еретиком: "…все плохие христиане, возмутители церковного согласия, могут встречаться среди толп народа, во множестве нахлынувшего на Париж отовсюду, но никак не среди жителей этого вашего доброго города, каковой по благодати и доброте Божьей, с вашей, Сир, помощью и благодаря заслугам ваших предшественников до сего дня охраняем от соблазна лживых доктрин…"