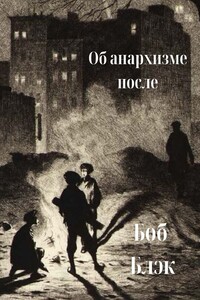Куликовская битва | страница 7
Для иллюстрации настоящей работы привлечены миниатюры Лондонского списка Сказания о Мамаевом побоище, а также Лицевого свода XVI в.[28] Последние являются древнейшими оригинальными изобразительными свидетельствами о Куликовской битве. При всей условности и определенной трафаретности они правдоподобно, в деталях, передают картину боя, сечу сплоченных конных отрядов, боевой строй полков, тесную рукопашную схватку, обилие жертв. Сюжеты воспроизведены в таком виде, как они представлялись художнику XVI в. (изобразительные прототипы здесь, по моему мнению, не всегда обязательны), обладавшему навыком не только точного прочтения летописи, но и образного ее истолкования. Благодаря этому обстоятельству яснее представляется ряд эпизодов сражения, переданных человеком, хотя и не современником 1380 г., но окруженным незабытым миром понятий того отошедшего времени.
И в итоге обзора источников приходим к следующим основным заключениям. Большинство фактов, связанных с военной стороной Куликовской эпопеи, документально. При изучении этого события важно использовать весь комплекс источников, что необходимо для уяснения не только бесспорных ситуаций, но и «темных» или неразгаданных. Исследование обстоятельств и фактов, относящихся к Куликовской битве, имеет ключевое значение для понимания гражданской и особенно военной истории Руси периода зрелого средневековья.
Возрождение Руси
В истории русских земель зрелого средневековья настойчиво прокладывали себе дорогу две прогрессивные тенденции: необходимость борьбы с агрессией извне и политическое объединение областей. Эти тенденции определяющим образом повлияли на формирование государства и великорусской народности. Русь XIV в. насчитывала не менее 10 крупных земель и княжеств с 20 уделами. Политическое и военное соперничество этих полугосударственных образований и некоторые областные различия не отрицают того, что они существовали в условиях этнического, языкового, культурного, религиозного и технического единства. Сходным был и общественно-экономический уровень. Борьба с внешними врагами отвлекала много сил и средств, но одновременно сплачивала составные части Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, ускоряла их федеративное объединение. Путь преодоления феодальной раздробленности не был, однако, прямолинейным. Случались здесь поражения и задержки развития.
Крупные политические деятели XIV в. в той или иной мере понимали общенародный характер освободительной миссии Руси, стремившейся сбросить монгольское иго. Такая программа направляла их к усилению своего княжения и своих вооруженных сил. Ордынцы со своей стороны зорко следили за «русским улусом», не позволяя укрепиться его частям, сталкивая интересы князей, натравливая их друг на друга, поборами и погромами ослабляя отдельные города и земли. Эти действия приносили успех, но не предотвратили выдвижения антиордынского лидера, каким оказалось Московское княжество. Значение Москвы особенно обозначилось после погрома карательной экспедицией, посланной в 1327 г. ханом Узбеком, усилившегося в начале XIV в. Тверского княжества. Все более отчетливо доминирующее влияние Московского княжества проявилось в период правления Ивана Калиты (1325–1340 гг.), проводившего расчетливую политику расширения границ своей территории и одновременно откупавшегося от Золотой Орды исправными выплатами дани. Тогда впервые со времен «Батыева пленения» на Руси установилась длительная и желанная военная передышка: