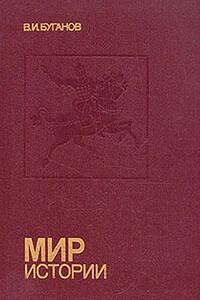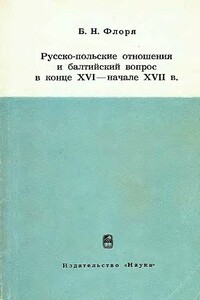Куликовская битва. Сборник статей | страница 112
Возможные причины такого, поведения литовских военачальников в последнее время подробно анализировал И. Б. Греков[582], выделивший два важных фактора, действие которых повлияло на принятие соответствующих решений. Во-первых, исследователь отмечает, что Ягайло и литовское боярство были более всего заинтересованы во взаимном ослаблении Москвы и Орды, а полная победа Орды не входила в их планы. Во-вторых, вслед за О. Смолькой И. Б. Греков подчеркивает, что белорусские и украинские полки в составе литовской рати вряд ли охотно бы сражались против московского войска вместе с монголо-татарами.
Роль первого из этих факторов вызывает все же известные сомнения. Анализ развития литовско-ордынско-московских отношений показывает, что идея прямого военного сотрудничества Литвы и Орды против Московского княжества появилась не сразу, а ее появление отражало факт осознания политиками обеих стран, что Москву нельзя победить, действуя в одиночку. Думается поэтому, что Ягайло и его окружение не были все же заинтересованы в том, чтобы предоставить монголо-татар самим себе, и решающую роль надо приписать действию второго фактора.
Значение этого фактора станет очевидным, если попытаться примерно представить себе состав литовского войска. (Как было показано выше, есть основание полагать, что в походе не приняли участия войска из литовских (Жемайтия, западная часть Аукштайтии) и белорусских (Подляшье) владений Кейстута. Таким образом, войско Ягайлы лишь в небольшой части должно было складываться из войск, набранных в его литовских владениях (восточная часть Аукштайтии). Его основную массу составляли рати, выставленные Полоцкой и Витебской землями, войска, приведенные Ольгердовичами, сидевшими на княжениях в Киевщине и Черниговщине, и войска Гедиминовичей, сидевших на Волыни. Интересы феодалов этих земель значительно расходились с интересами литовского боярства. Прежде всего они не извлекали никаких выгод из политики восточной экспансии: дани с подчиненных земель поступали в Вильно и распределялись между литовской знатью. Поэтому они не были заинтересованы в поражении Московского княжества. Но еще более важно, что курс на открытое сотрудничество с Ордой прямо противоречил интересам феодалов Волыни, Киевщины и Черниговщины, в прошлом жестоко страдавших от монголо-татарского ига и кровно заинтересованных в ликвидации еще сохранявшейся зависимости своих земель от Орды. Серьезные противоречия существовали и во взаимоотношениях литовской знати с частью белорусских феодалов: вспыхнувшее вскоре после битвы новое восстание полочан в 1381 г. является ясным свидетельством этого. Если же прибавить, что белорусских и украинских дружинников в составе литовского войска объединяло с московской ратью, выступившей против монголо-татар, сознание принадлежности к одному и тому же древнерусскому народу, то станет ясным, что повести эти войска вместе с монголо-татарами против Москвы оказалось неразрешимой задачей.