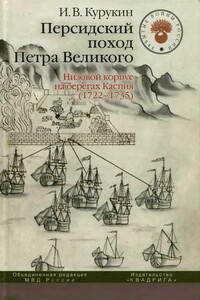Россия и Ливония в конце XV века: Истоки конфликта | страница 19
Полемические пассажи «Лифляндского ответа» в целом соответствовали подобной установке, хотя сам факт принадлежности прибалтийских провинций Российской империи и верность их населения императору Ширреном ни в коем случае не оспаривались. Резкое неприятие автора вызывала славянофильская идея «национального единения всех русских», потребность в создании которого и его расширении посредством русификации «окраин» предопределялась, по мысли Самарина, задачей самосохранения, «инстинктом расы». Ширрен «инстинкту расы» противопоставил «принцип автономии», возведенный им в ранг «жизненного принципа» прибалтийских провинций, который обеспечивал им спасение «во всех бурях минувших столетий» и который во имя общественного блага следовало сохранять и впредь. «Инстинкту разрушения мы противопоставляем великие привилегии права, науки, человеческого достоинства, пусть хотя бы в отношении трех маленьких провинций. Если они будут спасены в провинциях, тем самым они сохранятся и для империи»[48]. Эта установка, впечатленная в строках «Лифляндского ответа», сопровождалась нелицеприятными высказываниями в адрес русского народа и русской культуры, пропитанными такого же рода национализмом, что и критикуемый объект. Это отнюдь не способствовало нормальному диалогу сторон, а, напротив, усиливало конфронтацию и накаляло общественную атмосферу.
Этот памфлет, как и судьба его автора, отстраненного от преподавания в университете и вынужденного покинуть родину, вызвал в немецко-прибалтийской среде широкий общественный резонанс, а его основные положения предопределили ее политические позиции на десятилетия вперед. В них крепло «национальное» самосознание (если, конечно, понятие «нация» применимо к прибалтийским немцам) и желание сопротивляться внешнему давлению, но одновременно, что нельзя не отметить, и рост неприязненного отношения к России и русским, которое в разных вариациях проявлялось в публицистике, беллетристике и историографии. В большом количестве стали появляться брошюры исторического содержания, чаще всего анонимные, связанные больше с политикой, чем с историей, которые подогревали интерес прибалтийских немцев к истории родного края.
Ширрен не сумел создать в Прибалтике своей научной школы, но этот недостаток вскоре был устранен благодаря деятельности профессора Геттингенского университета Георга фон Вайтца и успехам его семинаров, где историкам прививались методы критического анализа исторических источников и разрабатывались новые методики эдиторской техники. В последние десятилетия XIX столетия в них оттачивали свое мастерство многие из ведущих прибалтийских историков, пять из которых (Г. Гильдебрандт, К. Хёльбаум, Т. Шиман, Ф. Шварц и Г. Кёрстннер) защищали свои докторские диссертации по истории Прибалтики. Так, во многом благодаря «школе Вайтца» прибалтийская историография, которая ранее в основном была полем деятельности любителей, получила профессионально подготовленных специалистов, которые сразу же приступили к очень ответственной работе, связанной с поиском и публикацией источников по истории «Старой Ливонии». Создание научных обществ, занимавшихся изучением истории и культуры остзейских провинций России, таких как Курляндское общество по изучению литературы и искусства (Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst) и Генеалогическое общество балтийских провинций (Genealogische Gesellschaft der Ostseeprovinzen) в Митаве/Елгаве, Общество по изучению истории балтийских провинций России (Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands) в Риге и Эстляндское литературное общество (Estländische literarische Gesellschaft) в Ревеле, появление историко-публицистических журналов «Балтийский ежемесячный журнал» («Baltische Monatsschrift»), «Сообщения из ливонской истории» («Mitteilungen aus der livländischen Geschichte»), «Ежегодник по генеалогии, нумизматики и сфрагистике» («Jahrbuch fur Geraldik, Numismatik und Sphragistik»), также благотворно сказались на общем состоянии немецко-прибалтийской историографии рубежа XIX и XX вв.