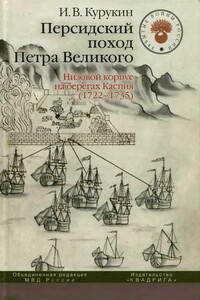Россия и Ливония в конце XV века: Истоки конфликта | страница 17
Так в немецко-прибалтийской историографии создавался идеализированный образ магистра Плеттенберга, которого начинают почитать как национального героя, воплощавшего идею борьбы с «любым натиском славянства» и единство «ливонской нации» (О. фон Рутгенберг). Этому образу суждено было стать знаменем остзейской оппозиции, а потому ее лидеры много сделали для его популяризации. В 1852 г. историк А. Лёвис оф Менар обратился к ландтагу с призывом увековечить память Плеттенберга, которого предложил именовать Великим, и три года спустя, 19 сентября 1855 г., торжественное открытие памятника состоялось. Бронзовый бюст Плеттенберга работы скульпторов Ф. Шванталера и Ф. Мюллера занял почетное место в боковой капелле церкви Св. Иоанна в городе Вендене (Цесисе), где некогда располагалась резиденция магистра[44].
В 60-х гг. XIX в. проводимая правительством Александра II широкая программа реформ усилила накал политической борьбы в Прибалтийском крае. Аграрная реформа, угрожавшая благосостоянию местного дворянства, ограничение полномочий органов сословного и городского самоуправления, перестройка судебно-правовой системы, русификация школьного образования, притеснения, которые начала испытывать лютеранская церковь, тяжело переживались немецко-прибалтийским сообществом. Болезненно воспринимались нападки на прибалтийскую автономию и на прибалтийских немцев, которые с легкой руки славянофила М. Н. Каткова время от времени появлялись на страницах русских газет и журналов. Правды ради следует заметить, что подобные публикации отчасти провоцировались националистическими высказываниями самих прибалтийских немцев. Так, например, случилось с серией статей, опубликованных в Германии эмигрировавшим туда отставным вице-президентом Верховного суда В. фон Боком, в которых содержались резкие выпады против России. И хотя позиция фон Бока широкой поддержки в Лифляндии и Эстляндии не нашла, в качестве ответа на него весной 1868 г. в Праге была опубликована работа Ю. Ф. Самарина «Окраины России», в которой русский мыслитель и общественный деятель высказался, мягко говоря, некорректно в адрес немецкого населения прибалтийских губерний. Наряду с нападками на лютеранскую церковь там, в частности, содержалось утверждение, что лидеры немецкой оппозиции, отстаивая провинциальную автономию, рассчитывают полностью «онемечить» латышей и эстонцев и превратить Остзейский край в «оплот против России».