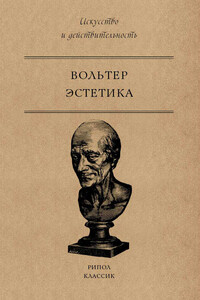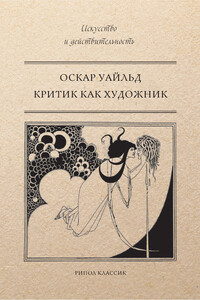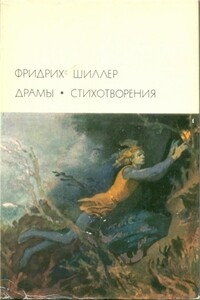Письма об эстетическом воспитании человека | страница 51
Итак, дух переходит от ощущения к мышлению путем некоторого среднего настроения, в котором чувственность и разум одновременно деятельны, но именно поэтому взаимно уничтожают свою определяющую силу и создают путем противоположения отрицание. Это среднее настроение, в котором дух не испытывает ни физического, ни морального понуждения, но деятелен и тем и иным способом, заслуживает быть названным свободным настроением по преимуществу, и если состояние чувственной определенности назвать физическим, а состояние разумного определения назвать логическим и моральным, то это состояние реальной и активной определимости следует назвать эстетическим{9}.
Письмо 21
Существует, как я отметил в начале предшествующего письма, двоякого рода состояние определимости и двоякого рода состояние определенности. Теперь я могу пояснить это положение.
Дух определим лишь постольку, поскольку он вообще неопределен; но он в то же время определим постольку, поскольку не исключительно определен, то есть поскольку не ограничен в своем определении. Первое – простое отсутствие определения (дух не имеет границ, ибо не имеет и реальности); второе – эстетическая определимость (дух не имеет границ, ибо содержит в себе всю реальность).
Дух определен, поскольку он только ограничен; но он определен также и постольку, поскольку он ограничивает себя своею собственною безусловною мощью. В первом положении дух находится, когда он ощущает, во втором, когда он мыслит. Итак, то, что мышление представляет собой по отношению к определению, эстетическое расположение представляет собой по отношению к определимости; первое – это ограничение вследствие внутренней неисчерпаемой силы, второе – это отрицание вследствие внутренней бесконечной полноты. Подобно тому как ощущение и мышление соприкасаются лишь в одной точке, а именно в том, что в обоих состояниях дух определен, что человек является исключительно одним из двух – или индивидом, или личностью, – во всем же остальном они до бесконечности различны, точно так же и эстетическая определимость лишь в одном пункте совпадает с простою неопределенностью, а именно в том, что обе исключают определенное бытие, будучи во всем остальном столь же различны, как ничто и все, то есть бесконечно. Если представлять себе последнюю, то есть неопределенность, происходящей от недостатка, пустою бесконечностью, то следует реальную ее противоположность, то есть эстетическую свободу определения, представлять как заполненную бесконечность. Это представление полнейшим образом совпадает с тем, что изложено в предыдущем исследовании.