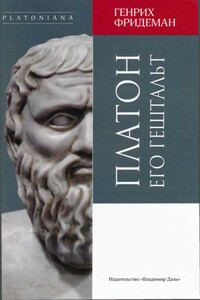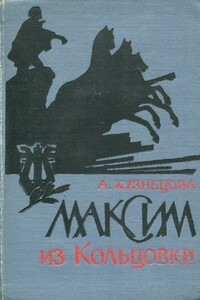И не только о нем... | страница 3
— Уместно ли? — спросил прокурора.
— Уместно. И даже очень, — сказал Генеральный прокурор.
В той же машине, с полковником в папахе, он ехал к себе домой, на улицу Серафимовича, два, и несколько удивился, когда автомобиль поехал не туда, не в дом на набережной, именуемый в московском просторечии Домом правительства, где была его квартира, а совсем в другом направлении, куда-то к Арбату.
Вот тут-то все и кончится — внутренне усмехнувшись, пошутил он над собою, тем более что они почему-то вдруг резко свернули в какой-то арбатский переулочек, въехали в какой-то вовсе незнакомый двор, поднялись по неказистой лестнице; доведя его до цели, на лестничной клетке полковник почтительно распростился, приложив руку к папахе, и сбежал вниз, он, толкнув дверь, вошел в незнакомую дотоле явно коммунальную квартиру, постучался, как ему было сказано, в дверь в глубине коридора, вошел, и навстречу поднялась сидевшая на высокой кровати немолодая женщина с усталыми, почти безразличными глазами, в ватнике-телогрейке, в простых толстых коричневых чулках, та самая, которая, он это тогда необъяснимо, но непреклонно почувствовал, действительно сидела еще час-полтора назад в кресле у Генерального прокурора. Его жена и мать его сыновей. Евгения Борисовна.
На следующий день было, вероятно, около девяти вечера, когда он позвонил мне.
Захватив случайно купленные два дня назад и так пригодившиеся сейчас две высокие бутылки немецкого мозельвейна, мы с женою и дочерью Таней, студенткой медицинского института, того самого, где он вел курс лекций на кафедре биохимии, отправились по адресу, который он сказал по телефону.
Встретил, словно бы расстались вчера и словно бы принимал нас не в чужой коммунальной квартире, а там, на набережной, или на его даче, в Серебряном Бору.
Старшего сына, Ильи, уже не было, он ушел недавно, другой сын, Феликс, стоял тут и то и дело, нервничая, выходил в коридор покурить. Младший сын, Витя, уже вернулся в Москву, невестка, жена Феликса, отправляла осиротевшего мальчика к своим родным, в Тбилиси…
А Евгения Борисовна смотрела на нас молча, она так нечеловечески устала и от внезапно обретенной свободы, и от встречи с семьей, и от всего, всего происшедшего, — не было сил ни спрашивать, ни отвечать…
Только вдруг сказала, что, если бы сдавался где-нибудь на реке, например на Волге, маленький-маленький домик, она бы хотела поехать туда и там жить, тихо, тихо…
А он, улыбаясь, смотрел на нас, ничего не рассказывал, лишь с живым любопытством расспрашивал про общих знакомых, про нашего маленького шестилетнего сына, про мои литературные дела, а когда я позволил себе задать вопрос, который пока еще наивно задавали вернувшимся людям в таких случаях, — «за что?» — брезгливо поежился и словно бы невзначай, как бы вскользь, заметил, что если справедлива была бы десятая, да почему десятая, сотая часть предъявленных ему следователем обвинений, то и тогда полагалось бы его расстрелять.