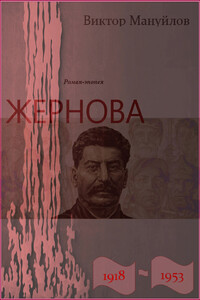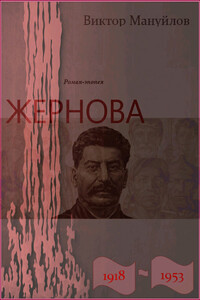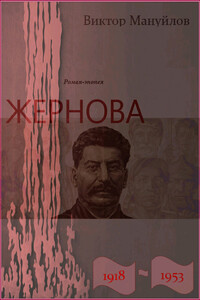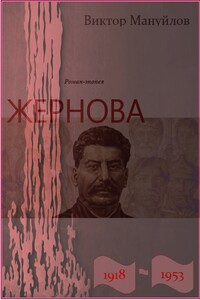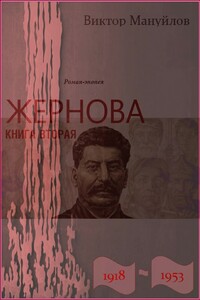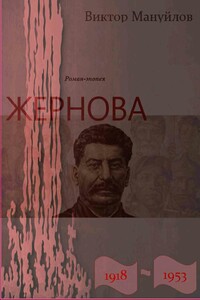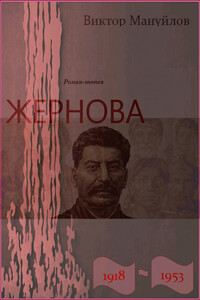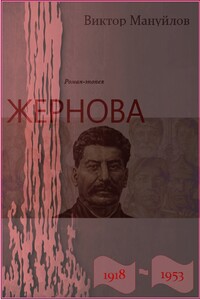Жернова. 1918–1953 | страница 14
— Музыку! — крикнул кто-то зычным голосом.
Ему вторили жиденькие хлопки.
Появился конферансье в черном цилиндре, с черной бабочкой, в черном трико, в черном же фраке и в… лаптях.
— Господа-товарищи-граждане! Один момент! Музыканты — тожеть люди! Они хочут есть и пить, какать и писять. А пока они загружают пищей свои желудки, а питьем — мочевые пузыри, перед вами выступит оригинальный поэт с оригинальными стихами. Благородные дамы могут заткнуть свои благородные ушки. Хотя, должен предупредить благородных дам: вы пропустите рождение освобожденного от оков буржуазных предрассудков живого русского слова, истинно русской, истинно народной поэзии. Итак! Вандрападал Первый! Он же Кузьма Ошейников! Прошу-ссс!
На сцену вышел небритый человек лет тридцати с хвостиком, с колючим лицом, резаным шрамом от уха к углу рта, с редкими всклокоченными волосами, в свитке, солдатских штанах и ботинках с обмотками. Он зыркнул маленькими злыми глазками по сидящим за столиками и стал выкрикивать резким, рыдающим голосом:
И далее в том же духе.
— Люсиндра! Тебе нравится? — сжимал Бабель атласную коленку своей спутницы, заглядывая в ее широко распахнутые детские глаза.
Люсиндра томно повела обнаженным острым плечиком, произнесла нараспев:
— У нас, в Нахаловке, и не такое закручивают.
— В Нахаловке… Скажешь тоже! Это ж новая поэзия, созвучная революционной эпохе! А у вас там разве уже поэзия? Дерьмо!
— Я есть хочу, а вы мне голову морочите своими стихами, — пожаловалась Люсиндра.
— Эй! Человек! Долго тебя ждать? — крикнул Бабель, высунувшись из кабинета.
— Сей секунд! Сей секунд! — ответствовал человек, лавируя между столиками, держа поднос, уставленный посудой, на кончиках растопыренных пальцев.
— Браво! — заорала публика, хлопая в ладоши поэту.
Вандрападал Первый поддернул спадающие с тощего зада штаны и соскочил в зал.
Оркестр заиграл «Мурку».
Из соседнего кабинета вывалилось трое: две нарумяненные девицы в длинных юбках по самую щиколотку, но с разрезом до бедра с левой стороны, в котором мелькали стройные ножки в шелковых чулках и кружевные панталоны. Девицы поддерживали с двух сторон молодого человека в тройке в светлую полоску. Он был пьян, с трудом держался на ногах, кричал, размахивая руками:
— Все жрете, сволочи! Все пьете? А Россия? Россия пропадай? Вот наступит тридцатое — вздрогните!