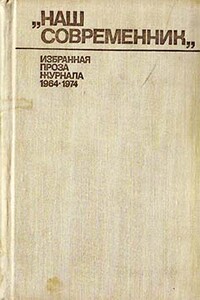Когда же мы встретимся? | страница 43
Дописываю в метро, ночью. Еду в метро, пристроил листок на чемоданчике, задрав ногу, а к ноге моей девчонка ногой прикоснулась, и тепло, и мысли всякие, уже тянет к ней, успею дописать и, если не выскочит на «Новослободской», пойду за ней. Еду с «Егора Булычева»! В каком-то наитии, восторге от Василия Ямщикова, от пьесы. Хороший драматург Горький, ранние его вещи не люблю. Жить опять охота, как людей знать хочется! Обнимает Глафира Булычева и говорит: «Егор, милый, уедем в Сибирь, уедем от всех». Ревел я, скрипел стулом, выл, тебя вспоминал, Кривощеково! Нашу работу с тобой в драме после школы, декорации таскали, нашу библиотеку и Алису Евгеньевну, мечты всякие, судьбу Антошки. Гениально играет Ямщиков, самый русский актер сейчас, по-моему, в Москве. Пошел бы за ним. Долго метался мужик без настоящей роли, не раскрывался и вот блеснул, да как, Димок! Что значит богатый материал, а не варево. Приезжай, гаденыш, чего там сидишь? Упьешься Москвой. Сошла моя девочка, красивая, хорошая, а издалека уж и совсем, не успел выпрыгнуть, ладно…
Еще три дня прошло. Ночь, сижу в канцелярии студни, в зале стоит гроб с телом педагога — умер сын великого русского актера, сподвижника Станиславского в прошлом. Надо было остаться на всю ночь, меня попросили, а я ведь безотказный, и вот мертвая тишина, и он там, в зале, мертвый. Еще позавчера со мной этюд готовил, очень ласков ко мне был, обещал к себе домой пригласить. Такой прекрасный мужик был! Умница! Историю любил, рассказчик! И вот уже все, никогда больше не услышим. Смерть и жизнь рядом, и ни ту, ни другую я не понимаю.
Утро, ласковое солнце встает. Москва молоко развозит, огни в окнах, а ему уже все это не нужно. Нет его. Иногда было страшно ночью. Пришел вот санитар, просто, по-деловому, без всякого таинства, поправил галстук, крепче сцепил руки покойника, похлопал, добро, по-товарищески, и удалился. Вот так и надо, наверное. Без слюнтяйства. В этом и правда, и житейская мудрость.
Перечитал письмо, глуп и занудлив, но, может, изменюсь. Пойду за советом к писателю Астапову, он, как сказал вездесущий Мисаил, приехал на днях из Финляндии… Пока, Димок…»
Егорка не мог знать, по какой надобности ходят нынче к писателям. Задавать ли вопросы: как и зачем жить? Доказывать свою правоту? Исповедаться, найти поддержку? Узнать мнение на положение в обществе? От кого-то он слыхал, что нынче все проще гораздо. Все будто бы ясно человеку на этом и на том свете, и разрешить бы одну трудность: помоги рублем, устрой на хорошее место или пожалей в обиде. Но Егорка не поверил, хотя земля наполнялась слухами, что шли к Астапову и за этим. Он представлял, что с писателем, которого любишь, в первую очередь хочется отвести душу, поглядеть на него, услыхать что-то. Он воодушевит, ты согреешься возле него и уйдешь просветленный, косвенно, из общего разговора, найдешь себе ответ. Он мечтал посидеть у Астапова, поспрашивать о том, о сем и ни в коем случае не заикаться сразу о себе, потому что просьбы у него никакой не было. Ко всему прочему только один маленький совет. Один-единственный.