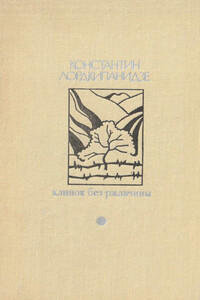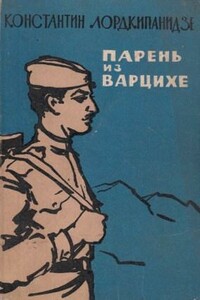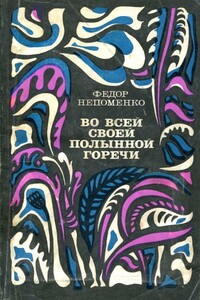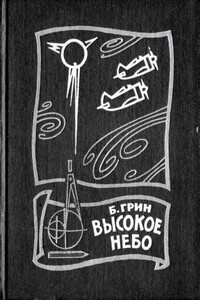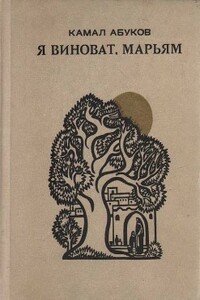Избранное | страница 2
Перед читателем воочию встает одно из сел Западной Грузии — этой «кукурузной республики», как ее называли в былые времена, подчеркивая крайнюю бедность крестьянских хозяйств, где выращивали в основном кукурузу и фасоль. Мы видим людей села — трудолюбивых, но придавленных нищетой, и видим, как партия большевиков будит в них веру в свои силы, помогает осознать великое преимущество объединенного братского труда, мы становимся свидетелями обострения классовой борьбы и трудного, но поистине вдохновенного строительства новой жизни, мощного подъема созидательных сил народа, ведущего к его духовному возрождению. И все это в таких конкретных, осязаемых формах, что невольно начинаешь чувствовать себя участником происходящих событий, заинтересованным в судьбах героев романа.
Роман К. Лордкипанидзе — это, по сути дела, рассказ о том, как менялись люди в процессе строительства новой жизни, как освобождение производительных сил привело к освобождению жизненной, человеческой энергии, к духовному раскрепощению труженика.
Основной пафос романа «Заря Колхиды» — да и всего творчества писателя — пафос революционного гуманизма. Писатель борется за победу в человеке человеческого и показывает те новые социальные условия, которые преображают народ, дают ему возможность полностью выявить свою творческую энергию, скованную прежде бесчеловечным строем жизни, основанным на угнетении.
В разные периоды творчества это достигалось писателем по-разному. В шестидесятые и семидесятые годы (хотя бывало и раньше) он явно стал склоняться к рассказу от первого лица с заметным усилением автобиографического и фактографического начала в своем повествовании. Правда, говоря об автобиографичности, часто следует иметь в виду одно немаловажное замечание самого автора: «…каждый правдивый писатель, создавая биографию своего поколения, рисуя облик своего времени, тем самым рисует в какой-то мере и самого себя, пишет историю своей жизни. Но ни в какой специально написанной биографии писатель не представлен перед читателем таким живым, настоящим, как в своих романах, повестях, стихах, хотя чаще всего он ходит по страницам этих книг незримо и неслышно, словно невидимка…» Так вот, если в повести «Мой первый комсомолец» образ и облик автора в той ретроспекции, в какой он дан, вполне зрим и очевиден, хотя и здесь жизнь его сплетена с жизнью его поколения, окружающей среды и современников, то, скажем, в первой части книги «Горец вернулся в горы», фигура автора видна лишь в экспозиции, а повесть-очерк построена на рассказе его спутника о далеком, дореволюционном прошлом высокогорной деревни Орбели. Зато во второй части этой же книги, в рассказе о другой горной деревне — Череми — вторжение автора в повествование становится гораздо более активным, он как бы сам включается в поиски материала — исторического и человеческого, чему способствует и сам жанр вещи в целом, которой предпослана такая авторская рекомендация: «Новелла, очерк, а порой и простой репортаж — так писалась книга о горькой доле двух горных деревень».