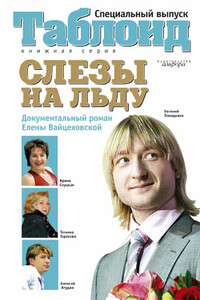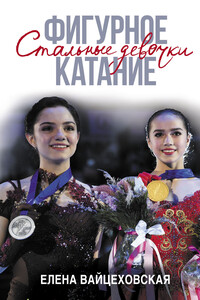Москвины: «Лед для двоих» | страница 43
А дальше надо просто работать. Можно не быть знаменитым — люди интуитивно чувствуют, если в тренере есть искра божья. Ученики начинают «подплывать» сами. И только потом в этом перенасыщенном ученическом растворе неизбежно начинают появляться кристаллы и кристаллики.
— Звучит, действительно, как готовый рецепт. А как было в жизни?
— Я довольно рано почувствовал, что мне интересно тренировать. Во всяком случае, уже с конца своей спортивной карьеры приобрел киноаппарат, стал снимать, сам проявлял пленку, сам клеил, рассматривал по фазам, как человек движется. Делал все то же самое, что до меня делали Москвин, Жук, Эдуард Плинер.
Сначала у меня была самая простенькая камера. По-моему она называлась «Спорт» и стоила 14 или 15 рублей. Второй камерой была «Нева» с переключающимися объективами. Но в конце концов я накопил денег и купил японскую камеру и просмотровый столик, на котором, вращая пленку вручную, можно было медленно просматривать кадры.
Снимал я везде, где только мог, переписывал старые пленки, которые удавалось достать, а потом на сборах мои ученики все лучшее копировали на льду. Кинотека у меня была одна из самых больших в мире. Такая же, знаю, была у Жука, и Москвина.
Придумать в фигурном катании что-то новое довольно сложно. Для этого нужен большой исходный материал, опыт. Как чужой, так и свой собственный. Кстати, иногда ловлю себя на мысли, что раньше все мы не считали зазорным снимать, записывать. А сейчас большинство наших тренеров лишь скептически наблюдают за тем, что происходит на льду и практически не пользуются тем, что приходит в фигурное катание с Запада, от других специалистов. В какой-то степени идут по нашим стопам. Заимствуют расположение элементов, подбор музыки, хореографии…
— То есть, творчество превращается в ремесло?
— Это, кстати, не самое плохое понятие. Искусство — и есть ремесло, доведенное до высшей степени совершенства. Сравните, к примеру, мою работу и работу Тамары Москвиной. На первый взгляд, у нас все различно, но на самом деле, очень много общего. Она разработала свою систему построения программ, чередования элементов — и я тоже. Правила сейчас таковы, что, например, в короткой программе как не старайся, ничего принципиально нового не создашь. Даже в расположении элементов.
Многое предопределено физиологическими особенностями человеческого организма. Нельзя, например, самый сложный элемент оставлять на конец программы — спортсмен, скорее всего, с ним не справится. Существуют и другие законы. В театре артист никогда не стоит в углу сцены. Если стоит — значит, задумано что-то с этим связанное. Финальная часть спектакля — тоже всегда в центре. Черные козни — возле кулис. Это не что иное, как закон зрительского восприятия. И, думаю, именно потому в искусстве ему следуют повсеместно.