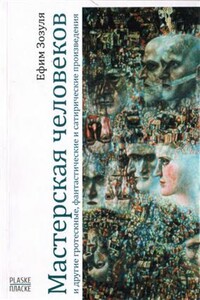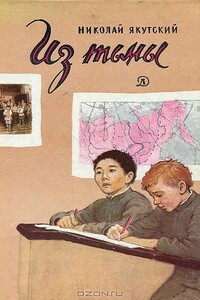Живой обелиск | страница 27
«Слово предоставляется выпускнику Хадо Кимыцовичу Дзесты», — торжественно объявил тамада.
«Товарищи! — почти шепотом сказал Хадо. — Я хочу поднять тост за наше вчера, которое дает нам уроки на завтра, за грусть, что живет с нами и заставляет нас быть людьми всегда и везде…»
«Э-э-э, Хадо, ты всегда любишь оригинальничать? Мы же пришли не на траурное заседание, а на праздник!» — сытое лицо тамады перекосилось, словно он съел неспелую сливу.
Хадо кашлянул в кулак и поднял полный рог еще выше. У него горели глаза.
«Я внимательно слушаю речи нашего наставника и думаю: какое же щедрое сердце у Авксентия Хасакоевича! Ведь даже сегодня, когда мы уже прошли путь длиной в десять лет и настал первый день самостоятельности, он не бросает нас на произвол судьбы и старается согреть теплом своей души так, чтоб это тепло грело нас всю жизнь!»
Лицо тамады расцвело, Хадо замолчал.
«Говори, Хадо, не стесняйся!» — подбодрил его тамада.
Кто-то захлопал в ладоши, Авксентий Хасакоевич мигнул музыкантам, и прозвучал туш, но Хадо, подняв рог с вином выше головы, махнул рукой:
«Я еще не все сказал… Спасибо, Авксентий Хасакоевич, за то, что вы развлекаете, веселите нас, но что делать, если мне, Хадо Дзесты, не хочется петь и танцевать?»
«Ты у нас отнимаешь много времени, а мне надо произнести еще семь тостов», — вставил Авксентий Хасакоевич.
«Пусть говорит!» — крикнул один из учителей.
«Говори, Хадо! Мы тебя слушаем!» — поддержал другой.
Воцарилась тишина, в руках Хадо дрожал рог.
«Я хотел произнести тост от имени тех, что шли впереди меня, от имени старших и младших, живых и не живых. — Голос Хадо тоже дрожал, и он говорил с большими паузами. — В начале войны мне было всего четыре года, и вы можете мне сказать, что я не имею морального права говорить о вещах, свидетелем которых не был… Но у меня есть товарищи. Им было тогда по двенадцать, они разрешали мне играть с ними в войну, и я запомнил многие печальные игры…»
Тамада смотрел на Хадо осоловелыми глазами, Хадо прижал рог к груди.
«Когда на родного дядю Заура — Гарси, заменившего ему отца, пришла черная бумага, Зауру и сыну Кудзага, Михе, уже было по четырнадцать, мне — шесть, а Таму и Асинет — четыре… Заур и Миха разрешили мне идти с ними по тяжкому иронвандагу…[14] Я помню, как они несли самый тяжелый груз из тех, что видели в жизни — черную бумагу, извещавшую о гибели Гарси… Мы ее похоронили не на аульском кладбище, а на укромном Переселенческом пригорке и поставили высокую каменную плиту…» — Хадо задыхался.