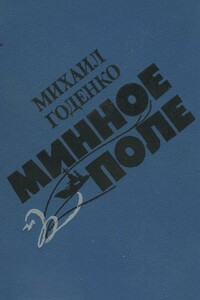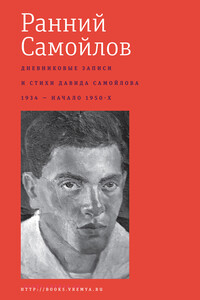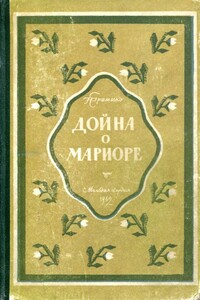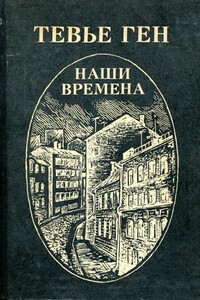Вечный огонь | страница 43
Один за другим появлялись «юнкерсы». Они не заходили в пике, не сбрасывали бомб. Видимо, высланные в разведку, определяли точное местонахождение русского корабля, пытались понять его состояние и положение.
Командир приказал спустить шлюпки, обеспечить экипаж всеми возможными спасательными средствами. Команде покинуть палубу. Корабль затопить.
Он помнил ленинское решение о потоплении эскадры Черноморского флота. Но тем, кто топил корабли тогда, в гражданскую войну, во время немецкой оккупации юга страны, было легче: им телеграф отстукал приказ. Командиру же эсминца «С» никто подобного приказа не давал, ему пришлось решать самому и взваливать на плечи всю тяжесть и необычность такого решения.
Мостов понимал, что поступил бы так же. Иного выхода не было. Но понимал и другое — что за потопленный корабль придется держать ответ.
Опыт прошлого не должен забываться.
Да, не должен. Но чему его, Мостова, командира подводного атомохода, научит поступок того далекого по времени, по месту действия командира эскадренного миноносца? Там тогда было все не то и не так. Единственное, что одинаково и там и здесь, — надо решать самому, решать самому!..
Не это ли есть то главное, чему должен учиться каждый командир?..
7
Анатолий Федорович Мостов не мог простить себе жестокости, которую допустил в отношении дочери. В тот день ему казалось, что все у него не ладится, все идет наперекосяк…
Они уже миновали Тулу, успели свернуть с Симферопольского шоссе на воронежскую трассу. «Москвич» бежал резво. Мелькали столбики с указателями и дорожными знаками. Мелькали столбы с телеграфными и телефонными проводами. Часто трассу пересекали линии высоковольтных передач, творя в радиоприемнике такой скрежет, что даже в зубах отдавалось. Изредка проплывали то слева, то справа темно-вишневые башни с локаторами и ретрансляторами, в долинах виднелись белые строения животноводческих ферм или птицефабрик. Села, городишки, бензоколонки, кафе, продовольственные и промтоварные палатки, дорожные рестораны с причудливо украшенными фронтонами. А всего больше — встречных машин. Проносились, обдавая тебя то теплым дыханием, то копотью, то просто ударяя тугим потоком воздуха. Проносились с воем, с сухим шипением — и ни конца им, ни края: закрытые фургоны, груженные мешками или ящиками трехтонки с высокими кузовами, МАЗы с прицепами, самосвалы разных марок: то КрАЗы, то БелАЗы…
Но пестрое разнообразие машин не развлекало в тот раз Анатолия Федоровича, напротив, утомляло. То ему чудилось, что слишком звучно играют-лопочут клапаны в моторе его «Москвича», и тогда он укорял себя мысленно за то, что не попросил базового механика перед отъездом их отрегулировать, дать нужные зазоры. То ему казалось, что позванивает в заднем мосту, и он опасался, что может случиться поломка. А то слышалось, будто стучат подшипники в двигателе, будто двигатель перегрелся, а датчик температуры вышел из строя, потому показывает все время одно и то же, плюс восемьдесят по Цельсию — идеальную температуру.