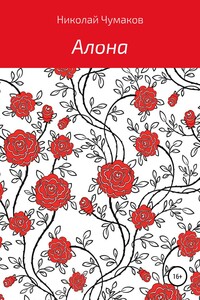Остановка в пути | страница 85
Я даже думаю, что поляки, встречавшиеся мне на дорогах вокруг лагеря или в поездах, представлялись мне тогда существами иной породы, пребывающими где-то за пределами нашей сферы — сферы плена, внутри которой для нас только и существовал истинный мир. Это были чужаки, случайно проходящие по периферии круга, что стал мне чуть ли не домом.
Если судить второпях, можно счесть такой взгляд нелепым рефлексом моего оккупационного мышления, что ж, точки соприкосновения здесь, пожалуй, есть, но по разным причинам я с этим все-таки не согласен.
Во-первых, не бог весть каким я был оккупантом. Польша с самого начала представлялась мне малосимпатичной чужбиной, которую я с великой охотой променял бы на любой уголок родного края, а для того, чтобы у меня выработалось верное понимание, как следует относиться к оккупированной стране, мне нужно было бы задержаться в ней несколько дольше.
Во-вторых, с этой точки зрения нельзя объяснить, почему русских, которые стали теперь моими стражами, как я был прежде стражем поляков, — почему же русских я причислял к своему миру, а не к миру поляков.
В плену, думается мне, происходит новое, примитивно-жестокое деление бытия на лагерное и внелагерное.
С принадлежностью к какому-либо государству, к какой-либо стране или нации это никак не связано, скорее уж это связано с потребностью человека в защищенности и с тягой человека к такой системе, которую можно окинуть взглядом. Лагерь — это система, которую легко окинуть взглядом, и для человека, у которого нет ничего, кроме самого себя, лагерь, пожалуй, самое надежное место.
Да что я все говорю и говорю, лучше приведу два-три примера.
Еще в самом начале, в период между тем, как меня взяли в плен крестьяне, и тем, как я попал к советскому лейтенанту, с которым ехал потом в эшелоне, я побывал под стражей у тех поляков, что носили бело-красные повязки; случилось это в Коло, мы сидели где-то, возможно в комендатуре, и среди любопытных, желавших меня видеть, был русский старшина.
В руках он держал огромный пистолет, самый большой из виденных мной когда-либо — очень может быть, однако, что это был обман зрения, ибо мало с какими пистолетами я входил в столь близкое соприкосновение. Владелец пистолета сунул мне его дуло к самому глазу, чтобы я заглянул в ствол, а потом даже ткнул в глаз — в подобной ситуации как-то сразу ощущаешь, сколь невероятно тонкое у тебя веко. У старшины, видимо, имелись на то свои причины; вполне допускаю после всего того, что довелось мне с тех пор узнать, и говорю это вполне искренне, но столь же искренне говорю и другое: он мне не понравился.