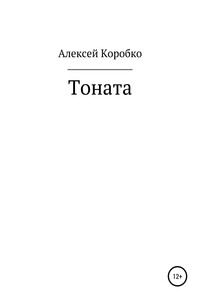Остановка в пути | страница 37
Хорошо было сидеть вот так, возле свежеуложенных, засыпанных гравием рельсов, поджидая вечерний поезд из Радома на Люблин. Мне было хорошо. Лучше уж ехать на подножке в Пулавы, чем на санитарной койке к Одеру, Слишком долго наблюдал я будни калек. Поначалу флаги и пустые рукава развевались в едином героическом порыве, но уже очень скоро рукава пристегивались булавками, а герои не годились даже в школьные сторожа: тем ведь приходится огромные, тяжелые флаги поднимать двумя руками. Вдобавок я знал Онно Менка; лучший конькобежец Марне, он теперь сидел в тележке у катка, и не могли же мы вечно помнить о том, как замечательно бегал на коньках Онно Менк.
Лучше уж мне со сторожами сидеть возле рельсов, чем о оружием ехать по рельсам. Быть солдатом — значит взвалить на себя сплошные обязательства. Знаю, то, что скажу сейчас, вызовет спор, но я говорю: я не желал менять несвободу солдат на мою свободу.
Радиус действия моей свободы измерялся дальностью действия винтовки часового. Кажется, это махонький кружок, но что только мог я выделывать внутри этого круга и чего-чего только был вправе не делать! Мне не надо было при побудке вскакивать с койки, будто по команде «Человек за бортом!». Мне не надо было бегать на зарядку по мокрому лесу. Мне не надо было никого приветствовать, и уж тем более предписанным образом. Мне не надо было трястись от страха, что какой-нибудь чужой дядя станет распекать меня за косо сидящую пилотку. Мне не надо было в ответ на любое замечание этого чужого дяди орать: «Так точно!» Мне не надо было во все горло орать песни, звучащие издевкой над моим истинным мнением, к примеру: «Чудесно-расчудесно быть солдатом!» Мне не надо было держать, «локтевую связь», протирать скамеечки для чистки сапог, носить подворотнички, смеяться фельдфебельским остротам, различать типы отравляющих газов, строем ходить на богослужения и убивать людей.
Я свободен был от тысячи бессмысленных или противных всякому смыслу принудительных действий. Я не свободен был в выборе места моего пребывания, моих соседей, моей деятельности или моих удовольствий, но уже в подборе удовольствий я был свободен. Я мог хоть до самого пупа расстегивать пуговицы. Я мог повторять сколько влезет, что лучше мне быть дома, чем в Польше, и это не почиталось предательством. Я мог любому своему соотечественнику объявить, что плевал на его остроты. Я мог моим иноязычным стражам, приходившим в изумление от моих мешкотных движений, пространно объяснять, что уже с давних пор страдаю балийской подагрой. Я мог назваться хоть неизвестным именем Хейдебрехт Финкенцёллер или известным — Сигизмунд Рюстиг