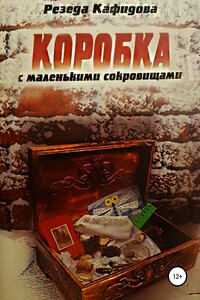Остановка в пути | страница 29
Я два дня возился с мисками; дело оказалось занятным, ведь люди очень по-разному отзываются, когда к ним подходит кто-то и просит, нельзя ли взглянуть на штамп в их суповой миске.
Немного, вообще-то говоря, нашлось таких, кто поверил, что я интересуюсь просто надписью; подозрение окружающих следовало за мной по пятам, и в конце концов все решили, что моя страсть к кастрюльным надписям просто еще одна форма фронтового психоза. Что они считали меня психом, я понял, когда староста палаты попытался два раза подряд послать меня выносить парашу.
Я заставил его отказаться от этого намерения и убедил в своих умственных способностях угрозой, что перейду в партию «баварского пива». Полагаю, он принадлежал еще недавно к генлейновцам, но теперь обратился в убежденного чеха и, будучи в хорошем настроении, начинал дискуссию о лучшем в мире пиве, причем, конечно же, пел дифирамбы пльзеньскому первоисточнику и дико взвинчивался, если кто-либо осмеливался хвалить напитки из Дортмунда, Копенгагена или, того хуже, Мюнхена.
И подобный тип хотел навесить мне психоз оттого только, что я заглядывал людям в пустые миски, а кто-то счел меня до того чокнутым, что потребовал ложку сахару, прежде чем разрешил изучить его проштампованную жестянку.
Не знаю, правда, зачем мне это может когда-нибудь понадобиться, но после лазарета мне известно, что в американских военных консервах почти всегда содержалось чуть-чуть соевой муки, и я хорошо знаю, что́ можно сказать за и против пива разных немецких земель, а увидев русские деревянные ложки, вспоминаю кружным путем — через проштампованные американские жестянки — обмороженные ноги.
Эти расписные ложки нам выдали вместо ножей и вилок; ножами и вилками мы же могли покончить с собой. Задумано верно, но до конца идею довели бы лишь в том случае, если бы нам выделили и деревянные корыта, а так, конечно же, какой-то бедолага жестью своей миски достаточно глубоко надрезал себе руку, чтобы на другой день его вынесли без кровинки в теле, мимо смертного угла венцев, который мы давно уже прозвали «кафе Захера»[10].
К счастью, под рукой был парикмахер, с которым я все мог обсудить. С ним разговор получался; он не страдал горячностью, с какой кое-кто бросается в любой спор, и апатией, как большинство, кто ко всему происходящему поворачивался отлежалой задницей, а главное, мне с ним не нужно было держать ухо востро, бояться, что он станет плакаться мне в жилетку, и думать со страхом, что он хочет всего-навсего заполучить мою более теплую куртку.