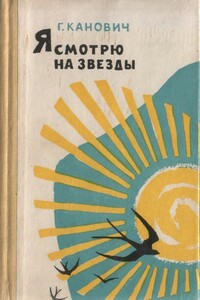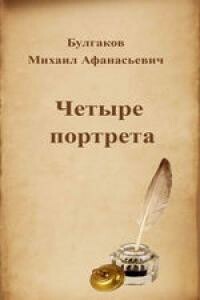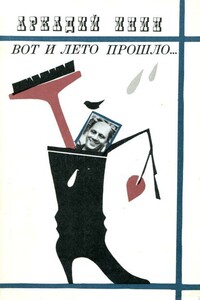Закон Бернулли | страница 71
Вот какие страсти-мордасти, вот какие цирлихи-манирлихи! Нет, у него не светло-серые, а голубые глаза и не просто спокойные, а ласковые и смущенные. Она тогда растерялась от такой близости и почувствовала, что цепенеет. Симпатичен был Коновалов, очень симпатичен; пожалуй, даже красив, но, как ей почудилось, чуть поигрывал в гостеприимного хозяина.
«…Ну что, дочка-портфельчик, садиться будем или как?» — шутливо спросили ее сзади, но шутливость с горчинкой.
Не заметила Нея, как подошли дядьки-братишки и как автобус подъехал, будто неслышно спустился с небес, только воздушные тормоза громко зашипели, и клацнули, открываясь, дверцы.
А как поехали, подумалось: Мэм и Ритка проходу не дадут. Но главное — Бинда, полновластный хозяин дворцовой, Лаврентий Игнатьевич, их маг и волшебник, наперсник служебных излишеств и вообще человек тоже слегка странноватый.
Комнату свою они величали д в о р ц о в о й за высоченные стены, лепные украшения на потолке и настоящий паркет, верно, поистершийся, но все-таки паркет, а не дрова, которыми были выложены полы у хлопотливых соседей по этажу.
Соседи занимали комнаты попроще, что не мешало частым летучкам, планеркам, совещаниям, а под конец каждого месяца профсоюзным собраниям с жаркими дебатами. Причем говорили больше о прошлом. Вот и на минувшей неделе Мэм случайно услышала, а потом под настроение повторила в дворцовой: «Раньше у нас были споры — кому выходить в субботу работать, а кому не выходить. Теперь мы не спорим, живем дружно, а которые спорили, в настоящее время у нас уже не работают!»
С первым и третьим этажами они почти не знались, ибо там обитали люди не очень понятные и суровые.
А вообще в их здании, упрятанном от соседних и дальних домов высокими раскидистыми дубами, виделось что-то привлекательное и благородное. Осенью золотистые желуди звонко щелкали о сизые плиточки тротуара. Не асфальт, а именно аккуратные каменные плиточки, выложенные плотно одна к другой, и по ним в сухую погоду идти было особенно приятно, а в дождливую каблуки чуть подскальзывали, но все равно тротуар перед зданием был для подруг тоже их маленькой привилегией, потому что нигде в городе не осталось таких тротуаров — все были перекроены и наращены обычным асфальтом.
Никто не знал точно, когда и кем был отстроен этот в три этажа высокий дом с зеленой железной крышей, стрельчатыми окнами и каменными виньетками над ними, широкими гранитными ступенями полукругом у парадного подъезда, украшенного с боков старинными фонарями на литых чугунных столбах, за давностью лет забылось и само имя уездного архитектора, теперь авторство неуверенно приписывали двум или трем давним деятелям, в том числе знаменитому в этих краях Андрею Сенькову, весьма схожему лицом и одеждой с героическим лейтенантом Шмидтом — старый дагерротип Нея видела в краеведческом музее, — но так или иначе, а их трехэтажный скромный, по современным понятиям, дом не был неприметным, этакая недосказанная, усеченно-прилежная провинциальная копия в миниатюре с Зимнего, который не слишком громко, однако с принципиальной твердостью гордились многие местные старожилы и даже энтузиасты помоложе — из числа активных ревнителей истории родного края. Один из них, разумеется, небесповодно, используя грядущий юбилей архитектора Сенькова (кажется, стопятидесятилетие со дня рождения), напоминал со страниц областной газеты в развитие шумной дискуссии о насущных проблемах регионального зодчества трактат намного обогнавшего XVIII век Клода-Никола Лебу — великого архитектора, как известно, чуть ли не предвосхитившего конструктивизм XX столетия: