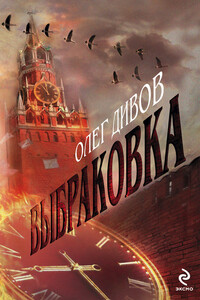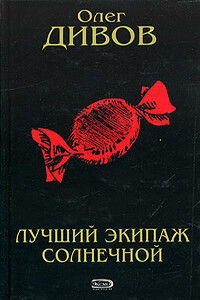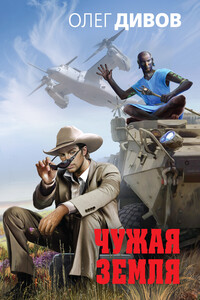«Если», 2016 № 04 (247) | страница 88
Мангазея — первый русский город за полярным кругом, основанный в XVII веке на севере Западной Сибири в нижнем течении реки Таз.
Драйвером освоения Севера всегда являлось получение коммерческой выгоды, будь то американская Аляска, канадские северные территории, будь то наши северные территории. Но сейчас сменились акценты: если раньше это были продукты животного происхождения, то сейчас это руды, нефть и газ. Кстати, руды Норильска известны со времен Мангазеи, то есть с XVII века, потом у нас появился сам Норильск на севере как центральная точка роста. Именно для Норильска, для обеспечения его круглогодичного снабжения и вывоза продукции горнорудного и металлургического комплекса в первую очередь создавался атомный ледокольный флот. В Арктике у нас Воркута — уголь, война, снабжение фронта, снабжение тыла. Третья точка — это Мурманск, рыболовство. Все связано с освоением природных ресурсов. Нарьян-Мар вырос на нефтяных деньгах Ненецкого автономного округа. Салехард — тоже штаб-квартира многих компаний, осваивающих Север. Природные ресурсы, деньги.
Если говорить об экономическом освоении Арктической зоны, то у нас за душой несколько проектов, связанных с освоением нефти и газа, три проекта по освоению руд и один — угля. Норильск я уже упомянул — это полиметаллические руды: медь, никель, кобальт, платиноиды. Начали потихоньку отгружать уголь с Диксона, будут строить угольный терминал на мысе Чайка. Также Павловское месторождение на Новой Земле, цинково-свинцовое с примесью серебра. Вот точки роста металлические и угольные. А нефтянка до 2030 года будет развиваться главным образом на суше — на побережье Печорского моря и на острове Колгуев, по берегам Обской губы — Новый Порт. Производство сжиженного природного газа для его транспортировки танкерами (Ямал СПГ) — Сабетта на Оби. Из Дудинки вывозятся небольшие объемы конденсата, а весь арктический шельф пока заключается в одном месторождении Приразломная. Нет никакой бешеной шельфовой экспансии.
А постоянные разговоры о дележке Арктики, о том, что есть конкуренция с точки зрения других государств, какой-то геополитический интерес?
Хороший вопрос, но дело заключается в том, что представление, которое формируется у общества средствами массовой информации, немножко не имеет отношения к действительности, точнее, не имеет к ней никакого отношения. Дело заключается в следующем: есть Конвенция ООН по морскому праву, она ратифицирована всеми арктическими государствами, кроме Соединенных Штатов. Суть ее заключается в том, что она устанавливает право прибрежных государств на запасы, которые находятся под морским дном, в недрах, устанавливает право регулирования рыболовства, промысла морского зверя и т. д. Акватория делится на несколько зон — это территориальное море, прилежащая зона, исключительная экономическая зона. 99 % всего, что можно будет использовать в Арктике, находится в зонах национальных юрисдикций, и поэтому говорить о каких-то конфронтациях, связанных с освоением минеральных ресурсов, я бы не стал. Конвенция ООН полностью обеспечивает права прибрежных государств на ту акваторию, которая находится в пределах континентального шельфа, двести миль, а все остальное, что находится в центральной части Арктической зоны, — малоперспективно. Никто никогда не делал вразумительной оценки ресурсного потенциала приполюсной зоны по причине отсутствия данных, а то, что американцы в 2008 году публиковали отчет по оптимистичной оценке ресурсов нефти и газа в приполярной области при отсутствии фактических данных, — это чистой воды спекуляция. На мой взгляд, это был чисто политический заказ, но он выступил триггером роста интереса к Арктике. Если сейчас будет подписано соглашение о запрете промышленного рыболовства в Арктическом бассейне, за исключением Баренцева моря и частично Чукотского моря, то тогда делить вообще будет нечего. Околополюсные претензии Дании, Канады и России носят политический, а не экономический характер.