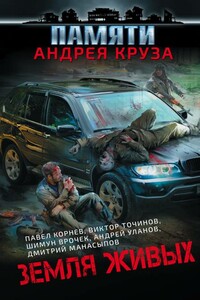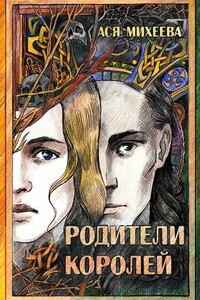Автор, жги! | страница 28
В-третьих, если участников ситуации хоть чуточку настроить на конкуренцию, то конфронтация включается сама. Непроизвольно. Даже если она страшно невыгодна именно здесь и сейчас. Вы хотите, чтобы у вас герои перессорились? Пусть один нечаянно заподозрит, что второй и третий о чем-то без него шушукались. Достаточно. Сокрытие информации, дружат против меня, я должен защищаться, вторая сторона понятия не имеет, с чего товарищ смотрит букой и отползает в сторону — может он что нехорошее задумал? — понеслось. Чтобы такого не допустить, в ситуации нужен условный гэндальф, и даже он, особенно на фоне сильного напряжения и густого антагонистического фона, не всегда справляется. Конфронтация включается, в том числе, тогда, когда нет определенности по поводу сроков заключенных договоренностей, нет механизмов наказания за нарушения лояльности, непрозрачны правила — короче, как только люди не уверены в том, хорошо ли с ними намерены обойтись, как идея урвать кусок лично себе и к черту этот колхоз — начинает казаться все более привлекательной.
В-четвертых, компромисс — это вообще не стратегия как таковая, а разминочно-проверочный перекресток на пути к сотрудничеству. Перейти прямо к сотрудничеству, то есть к честному обсуждению как мы дошли до жизни такой и что в моих действиях так вас напрягает и наоборот — ниоткуда, кроме как из компромисса, невозможно. Не бывает.
Дело в том, что компромисс, он же обмен уступками — вообще не решение ситуации, а процесс демонстрации друг другу, что вы — вменяемые люди, умеете этику, держите слово и достойны дальнейшего взаимодействия. В ситуации, особенно, затяжного конфликта, когда запекшейся кровью земля пропитана на локоть — никакого бравурного примирения технически быть не может. Но вежливые дипломатические шаги к холодному невосторженному взаимодействию, обмен и даже точечно безвозмездный возврат заложников, договоренности о лечении раненых, непротивление точечным примирениям (полукровка? Что же, хорошо, назначим на заметную должность согласно умениям и способностям — и парой поколений спустя брак Грегора Форбарра и Лаисы Тоскане никому не кажется издевательством). Медленно. Очень долго. Соскальзывая и съезжая в новое недоверие. Но, к сожалению, других путей наука не знает.
Зачем, собственно, такими силами нужно ползти в это сотрудничество? Дело в том, что реальное преобразование, коррекция предмета конфликта, то есть работа с глубинным противоречием, которое и ведет всю систему вразнос, возможно только тогда, когда это противоречие выявлено — осознано и названо. А выяснить разницу представлений, не сев и не выложив вообще все карты на стол, никак нельзя.