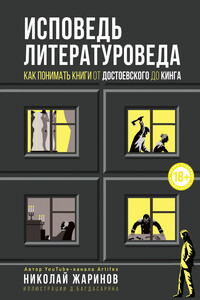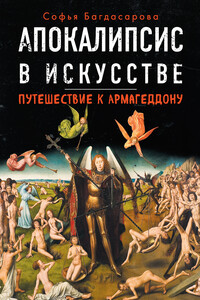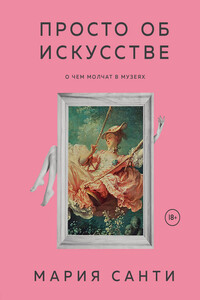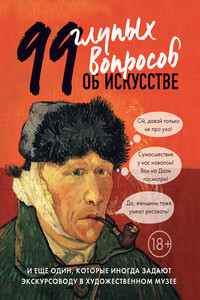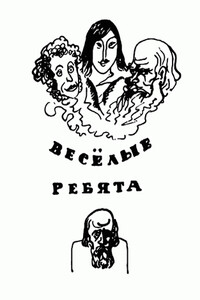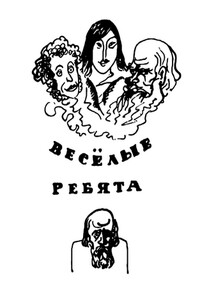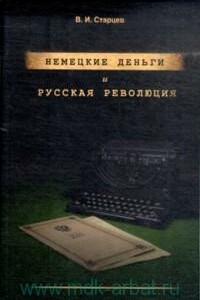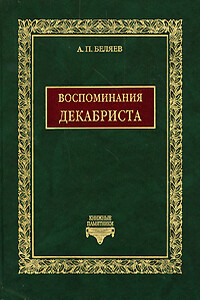«Лев Толстой очень любил детей...» | страница 50
Затем Сурат приводит еще один отрывок из сочинения старца: «Однажды Митрополит Филарет служил в Успенском соборе. Пушкин зашел туда и, скрестив, по обычаю, руки, простоял всю длинную проповедь, как вкопанный, боясь проронить малейшее слово. После обедни возвращается домой. — Где ты был так долго? — спрашивает его жена. — В Успенском. — Кого там видел? — Ах, оставь, — отвечал он и, положив свою могучую голову на руки, зарыдал. — Что с тобой? — стревожилась (sic) жена. — Ничего, дай мне скорее бумаги и чернил. — И вот, под влиянием проповеди Митрополита Филарета, Пушкин написал свое дивное стихотворение («В часы забав иль праздной скуки…» — И. С.), за которое много, верно, простил ему Господь».
Этот отрывок Сурат комментирует так: «Хочется плакать, но что-то мешает. На память приходят непрошеные в таком контексте анекдоты Хармса: Однажды Гоголь переоделся Пушкиным… или Лев Толстой очень любил детей… Но продолжим цитировать (старца): “Пушкин был мистик в душе и стремился в монастырь, что и выразил в своем стихотворении «К жене» («Пора, мой друг, пора!..» — И. С.). И той обителью, куда он стремился, был Псковский Печерский монастырь. Совсем созрела в нем мысль уйти туда, оставив жену в миру для детей, но и сатана не дремал и не дал осуществиться этому замыслу”»[31].
Александр Пушкин очень любил молиться, чего тут добавить.
Но так вышло, что Пушкин был только вершиной иерархической пирамиды русской литературы. Он находился на ее макушке, как генералиссимус. Чуть ниже стояли Толстой и Достоевский, за ними Тургенев и Некрасов, где-то за спинами — «прозеванный гений» Лесков, ну и множество других писателей. На советских школах старого образца иногда помещали изображения писателей в особых розетках на фасаде.
Этот канон чуть отличался от школы к школе. Слева были Пушкин и Толстой, справа — Горький и Маяковский. Иногда там появлялся и Ломоносов, отвечая одновременно и за литературу, и за точные науки. Эта попытка иерархии была неистребима и похожа на библиотечную каталогизацию. В каком-то смысле она соответствовала марксистской идее развития, от несовершенного прошлого через прекрасное настоящее — к идеальному будущему. При этом советская педагогика попадала в тупик: новая литература должна была быть лучше Пушкина, а действительность этому сопротивлялась. Недаром учитель в знаменитом фильме «Доживем до понедельника» возмущался: «То и дело слышу: «Жорес не учел», «Герцен не сумел», «Толстой недопонял»… Словно в истории орудовала компания двоечников!»