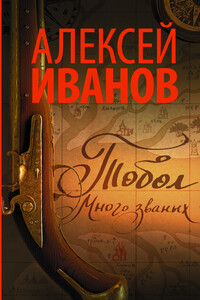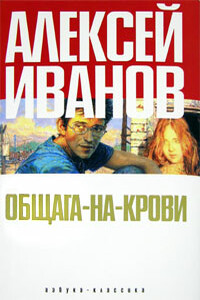Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями | страница 22
Следите ли вы за полемикой вокруг «Ельцин Центра»? Как вы считаете, почему тема 90-х вдруг стала столь актуальной?
Я слышал о полемике вокруг «Ельцин Центра», но не слежу за ней. У меня есть своё мнение о «Ельцин Центре», основанное на опыте давнего знакомства с этой институцией, и чужие вопли мне не интересны.
Я не думаю, что тема 90-х стала актуальной. Я думаю, что вдруг резко (и официально) изменилось отношение к 90-м — от сострадательно-осуждающего к оскорбительно-проклинающему. Причиной я вижу некую «герметизацию» современной России. Россия в некоем завышенном самомнении надменно отгораживается от всего: от Европы, от США, от культурного мейнстрима, от своих проблем и от своего недавнего прошлого. Это включился комплекс неполноценности.
Когда вы для себя поняли, что централизация России ведёт к деградации страны? Была ли какая-то отправная точка или вы пришли к пониманию этой проблемы постепенно?
Вы говорили, что сейчас «время корпораций», когда люди или присасываются к сообществу, компании и т. д., или создают своё (байкерское, футбольное, рыболовное, националистическое, политическое и т. д.). В этом нет ничего плохого, как мне кажется. Ведь стремление к объединению лежит в природе человека, не так ли? И даже в царской России были сословия, общинность, при которой человеку быть одному невыгодно и не нужно.
Чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем отчётливее понимаешь, что такое Россия. В частности, когда был у вас в Челябинске, то приятно было осознавать, что местная идентичность ещё не размыта глобалистскими вещами. Ощущение солидности, серьёзности местных людей не покидало меня, пока был на Урале. Этого не хватает здесь, в центральной части страны.
С централизацией страны, которая ведёт к деградации, я столкнулся сразу же, как только захотел сделать что-то выходящее за рамки дозволенного. Говоря проще, издать книгу. Это было в начале 90-х. Всё системное книгоиздание тогда сосредоточилось в столицах, а в Екатеринбурге, который некогда славился своими издательствами и журналами, оказалось глухо. (Так я и доныне здесь ничего не издал.) Потом мне стало ясно, что подобная ситуация — во всех сферах жизни, не только в книжном деле. Но первое недоумение появилось у меня именно тогда и от этого.
В желании людей объединяться нет ничего дурного. Но корпоративность — это не просто объединение. Это такое объединение, которое выполняет и функции государства. Представьте, что клуб филателистов начинает печатать свою валюту, строить свои больницы и вооружать свою армию. А нынешние «корпорации» именно этим и хороши. Они берут на себя функции государства, а для этого им приходится «присасываться» к ресурсу. В результате они разрушают и государство, поскольку отвергают принципы равноправия и конкуренции, и экономику, поскольку присваивают общенациональную ренту. Разумеется, в первую очередь виноваты в этом не «корпорации», а само государство, точнее истеблишмент, которому при таком порядке процветать проще и надёжнее. Я уже не раз говорил, что самая большая «корпорация» — Москва, которой дозволено жить хорошо, потому что она — буфер от нации, «подушка безопасности» российской власти.