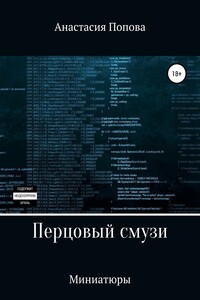(вариант:
BMW) вместо клейм и бубновых тузов; и решительных образованцев из офисов и на фрилансе, комарино слетающихся на венозный свет поздневечерних «проектов» за щепотью товарищества и «Манхэттеном» с кровью; и мечтательных мальчиков с творческим прищуром, жарко мнущих тетрадки на вымученных поэтических сходках, плодовитых донельзя и не признающих поэзии вне своего голубого кружка с обязательным в том исключением для Шевчука, Башлачева и Летова с Дягилевой; пономарь разгонялся до скороговорки, громоздя строй на строй, и, должно быть, в итоге заставил умолкшего Дорохова усомниться в своей непрерывной душевной исправности. Птицын не усмотрел себя в обществе обремененных тетрадками мальчиков: это время прошло уже определенно и никто бы не мог заманить его вновь в качестве соучастника к ним на подобный совет. Позади был филфак областного педвуза (откатавшись два года, законный оформил военник по вялотекущей, но могущей вспыхнуть острейше театрально-эффектной болезни и срулил на заочное биться келейно со списками литературы), две-три стычки-проверки на взрослость в районе метро после поздних зачетов и в Млынске у автовокзала (не умея базарить, старался пробить оппоненту в кадык и немедленно ретировался туда, где светлей, так и не уяснив для себя до конца убедительности своего длиннорукого выпада), мерклый ворох бездарных сближений со сверстницами, как и в давнее лето с поповной изумлявшими повседневной своей чистоплотностью и вниманьем к вещам совершенно ничтожным; длилось несколько дружб разной плотности, не согревающих душу, и теченье его было так же нераспознаваемо и беспредметно, как в протяжное школьное средневековье меж шестым и девятым, продуваемое сквозняками доносительства и всепокорства. Зимы загромождали дороги, и весны сносили непрочные дачи за Горьковским, лето жгло тротуарную плитку, и осень кричала в низинах, с тем чтоб уравновесить его и пейзаж, пропитать их друг другом, срастить и слежать — полагаясь на нерасшифрованный промысл, он не восставал в себе против такого устройства вещей.
Выезд в Пегое Займище, хлипкое место в шестнадцать дворов, воспоследовал через два дня после первой пристрелки; в перерыве вошедший как будто во вкус Аметист прикупил без смущения в галантерейно-посудном «Панконе» пару спиц круговых, упаковку простейших заколок и чернявые нитки с отливом, полагая устроить из этих деталей хоть сколько-нибудь убедительный жезел прелестника и звездочетца, и в итоге предстал пред майором и неким еще прилепившимся сыщиком с пластиковым пакетом, скрывающим приспособленье от праздного взгляда. Проскочив без задержки ни в чем Боровково и Мамонтово, повернули в поля, где кипели морями цикорий и рыжая пижма, зацепили крылом удирающую трясогузку, вторглись в темный ольшаник и вынырнули на грунтовку, по дуге выводящую к Займищу, где Аметист не бывал отродясь и куда его вряд ли могла занести самоличная прихоть. Не терявший по-прежнему висельной бодрости громкий Почаев рассказал между прочим о займищенском обитателе, старике Столярове при советских каких-то заслугах, что при помощи старых подшивок запалил в ноль шестом деревянный свой дом вместе с парализованной после удара женой, убедился, что пламя надежно, и ушел на болото топиться, но был перехвачен пожарной командой, срезающей путь через лес, избежал скороспелой расправы от рук земляков, но в конце концов был обнаружен в СИЗО поутру бездыханным со всеми приметами, свойственными утопленью, а в желудке по вскрытии определили болотную грязь. Третье лето мне снится, прибавил майор, мать его поперек, все к утру: жижей брызжется, бьется, а хочет чего — не понять; Николай Николаевич Глодышев разговорил бы его, пошутил Аметист; это да, неожиданно высказался всю дорогу молчавший следак. Птицын внутренне дрогнул от голоса из-за плеча, не успев удивиться внезапной поддержке, и нежнее приобнял укрытый пакетом циутр.