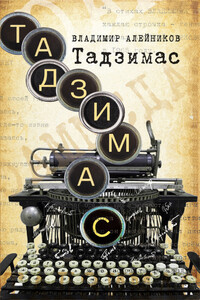Седая нить | страница 32
И сейчас же в дверь позвонили.
И в квартиру вбежал Губанов. Тут же бросился прямо к столу, налил водки немного, выпил залпом, лихо, перекрестился на иконы, потом огляделся и сказал:
– Слава богу, я здесь! Веня, здравствуй! Серёжа, здравствуй! Генрих, здравствуй! Здравствуйте, Игорь! – И ко мне поскорее, с объятиями, по-московски: – Здравствуй, Володя!
Был Губанов нервичен. Очень. Коренастый, с короткой чёлкой, закрывавшей скульптурный, матовый, чуть вспотевший в дороге лоб, сероглазый, с длинными, чуткими, беспокойно дрожащими пальцами рук, то мечущихся по-птичьи, то растерянно и устало прижимаемых им к груди, словно там, где бьётся упрямо не желающее сдаваться никогда, никому, ни за что, поднадорванное алкоголем и дурдомовскими лекарствами золотое сердце его, есть просвет во мгле, – был он грустен.
Был Губанов не просто грустен, а скорее, как-то затерян где-то в дебрях души своей, как в глуши смурной, как в пустыне. Одиночество прикоснулось к обречённо набрякшим векам – и оставило знак свой страшный – навсегда, на потом – на них. Одиночество – при такой-то бурной жизни, как у Губанова? Да, представьте себе. Одиночество. Почему? Отчего? Зачем? Потому ли, что в нём единственном находил он порой спасенье от кошмаров нескладной жизни, от гульбы? Не знаю. Не вем.
Был Губанов – живою скорбью о былом. О славе. О СМОГе. О неистовом вознесенье – прямо в звёзды. К семи небесам. Все надежды, считай, накрылись. Жизнь разбита. СМОГ уничтожен. Что же делать ему, поэту? Жить, как все? Вставать по часам? На какую-то службу тащиться? Выживать по новой учиться? Принимать жуть бесчасья тщиться? Прозябать где-нибудь в сторожах? Боже правый! Ну что за доля? Сделай шаг – попадёшь в неволю. Сколько горя и сколько боли, если век и речь – на ножах!
И опять позвонили в дверь.
И в квартире возник худющий, лысоватый, высокий, бледный, теребя рукою бородку, а другой рукой доставая из кармана бутылку пива, всеми нами любимый Петя, мой земляк почти, с Украины, щирый хлопец и классный художник, Беленок, и сказал, с юморком, как всегда:
– Здоровеньки булы!
Беленок был ярым трудягой. Вместе с тем – ленивцем изрядным. Не пропойцею, не бродягой – человеком сельским, опрятным. Под Чернобылем он родился. Ну а в Киеве – он учился. В украинской глубинке трудился: всё, что можно, тут же ваял. Стал он скульптором там известным. Но к широким его интересам не имел отношения вовсе заказной ваятельский труд. Вот и бросил он это дело. И – в Москве появился смело. Посвятил он себя всецело новой живописи своей.