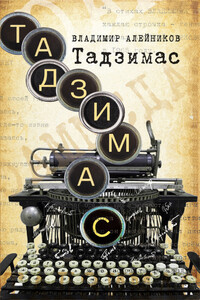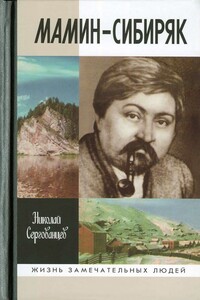Седая нить | страница 162
– Ни веры, ни надежды, ни любви, стеклянные свидания в пыли. Лицо своё на зеркале возьми. Казни меня, казни меня, казни. Наверно, это в чёрных городах с монетою и чёлка молода. Наверное, но только не покой – с того бы света я ушёл к другой. Ты знаешь, ты сегодня – береста. Последнюю причёску перестань. У гробика иконы убери. Ни веры, ни надежды, ни любви! Я на рассвете жуткого письма, но утром, к четырём часам, весьма… Я вспомню прорубь в трёх верстах от глаз, и эта проблядь мне не даст отказ. Я завяжу на шее гордый шарф, я попляшу, я поплюю на шар – на шар земной, который груб и скуп, где спят зимой и где весной умрут, на шар земной, где у больных мука, на шар земной, где у здоровых – мука, на шар земной, где мне твоя рука напоминает уголок и уголь, где спят, как жнут, перебегая ять, где яда ждут, как ждут любимых мять, где день и ночь в халате пьянь и лень, где тень, как дочь, а если дочь – как тень, картонный раб, и на ресницах тушь, в конторах драк служивых десять душ, в моментах птиц – еврейская печаль, в конвертах лиц – плебейская печать. Работай, князь! Дай Бог вам головы, всё та же грязь – управы и халвы. Надейся, раб, на трижды гретый суп, оденься, наг, и жди свой Высший Суд. Солите жён, дабы пришлись на вкус, над платежом не размышлял Иисус. Я наклонюсь над прорубью моей – «О, будь ты проклят, камень из камней!..» Где вечно подлость будет на коне, а мы, как хворост, гибнем на огне. Когда, земной передвигая ход, разучатся смеяться и плошать, я – то зерно, которое взойдёт, не хватит рук, чтобы меня пожать. Ну а пока крепи меня, лепи. Ах, как же тянет спать да спать в гробу – ни веры, ни надежды, ни любви – я написал на белоснежном лбу!..
Но времена изменились.
Изменились они очень сильно, как-то вдруг, для многих – стремительно, для немногих – закономерно, и были они – другими, чем те, к которым привыкли все мы, то есть – родные, крылатые шестидесятые, с их молодостью, и храбростью, и радостью, вовсе не странной для нас, потому что она была нам вполне по возрасту, по силам, тогда безмерным, по нраву, тогда крутому, по многим ещё причинам, для нас дорогим и важным, – теперь же, мы понимали, настали для всей богемы иные совсем времена.
Никто и не думал отрицать наличие его громадного дара.
Никому это и в голову бы не пришло. Делать это бессмысленно, и такое вот лобовое, прямолинейное отрицание обычно сводится к абсурду и не лучшим образом, если вспомнить о разумности подобных выпадов, характеризует всяческих злопыхателей. Поскольку дар есть дар, и он, да ещё такой, как у Лёни, вообще крайне редок, и сам за себя говорит, и существует, несмотря ни на что, а часто и вопреки всему, что хотело бы его погубить, унизить, окутать завесой замалчивания, – то он, будучи, по природе своей, жизнестойким и жизнетворным, сам себя ещё и защищает.