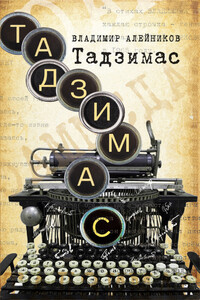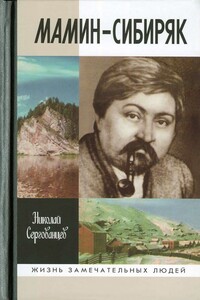Седая нить | страница 158
Клеймо, дающее право людям – на жалкую пенсию.
Дело с милицией – как-то само по себе затихло, забылось. Никто о нём почему-то и не вспоминал.
Ворошилов вернулся к нам из психушки слегка постаревшим, но с каким-то особенным, новым, ему открывшимся знанием тайным – о мире и людях.
И – с подорванным основательно – медициной советской – здоровьем.
Всем понятно было тогда, почему оно оказалось подорванным основательно – и кто именно так расстарался, чтобы его подорвать.
О болячках думать всерьёз не желал он сейчас, и всё тут.
Не желал. Не хотел и слышать. Принципиально. Сознательно.
У него-то – какие годы? Вполне ещё молодые.
Некогда, просто некогда чувствовать всюду себя угнетённым, разбитым, больным.
Да мало ли что там болит?
Лучше – этого не замечать.
Стараться – не замечать.
Приучить себя – не замечать.
Здоровье – дело, похоже, поправимое. Так он считал.
Панацея от бед – работа.
Вот что сейчас для него в жизни самое важное.
Вот в чём сейчас для него – спасение настоящее.
И он принялся – работать.
Так мечтал он в психушке проклятой о возможности заниматься искусством – и наконец-то получил, – нет, радостней надо сказать об этом, пожалуй, – обрёл он эту возможность.
Наконец-то дорвался он до живописи своей.
Наконец он сможет «измазаться в свои любимые краски»!
Ворошилов ринулся к творчеству – в свой мир, в свой лад, в свои ритмы, в животворный свой, рукотворный свет, – словно ринулся в бой.
Только это сражение нынешнее – было радостным для него.
На подъёме сплошном, на одном невероятно долгом, свободном, широком дыхании, на взлёте, великолепный в своей одержимости новой работой, в своей вдохновенности, в своей неистовой страсти к художническому труду, создавал он за серией серию, одна сильнее другой, свои дивные темперы, с магией обобщений и всех деталей, и цветные, с празднеством линий, рисунки в смешанной технике, и сангины очаровательные, и рисунки углём стремительные, и рисунки тонкие тушью, и ещё, и ещё работы, в самой разной технике, сызнова, так и надо всегда, на любом подвернувшемся материале, на картоне, и на холсте, на бумаге, и оргалите, на каких-нибудь там деревяшках, всё равно, и работа кипела, непрерывно, в его руках, – и это, следует знать потомкам нашим в грядущем, не фантазия и не сказка, но свидетельство достоверное, и моё, и не только моё, но и многих других очевидцев, – и, скажу вам сейчас нечто важное, из всего вот этого, сказочного, да и только, потока работ, возникающих, чудом, казалось бы, ниоткуда, как по мановению, взмах – и чудо, волшебной палочки, в наикратчайшие сроки, из всего вот этого света, изумительного сияния, из этих образов светлых души, из образов мира, из добытой кровью гармонии – звучала тогда для меня новая, мощная, близкая к музыке, полифония ворошиловская, звучали сразу несколько тем, которые переплетались, аукались, приглушались и возникали сызнова, – и образовывали единое целое, синтез, уникальный, сложный, не всеми постижимый, но и прекрасный в душевной своей чистоте, в сердечном порыве, в движении к сути, – и это был совершенно особенный, редкостный, ворошиловский контрапункт, в этом было нечто вселенское, по структуре своей, по размаху, по развитию связей духовных, по срастанию нитей незримых на путях земных и небесных, нечто Баховское, грандиозное, – то, что им сейчас разрабатывалось, на глазах у нас, то, что потом получило, в восьмидесятых, не в Москве уже, а на Урале, в долгий, зрелый его период, озарённый любовью, такое – поражающее людское, на столетья, воображение, – удивительное развитие, то, чего словами не высказать никакому искусствоведу, и поэту даже не высказать, то, что, братцы, и называется искони на земле – Искусством, – и вот этим-то словом, кратким и довольно простым, всё и сказано.