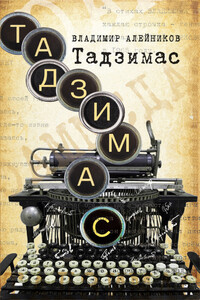Седая нить | страница 115
Ворошилов, сумрачный, тихий, осунувшийся, докуривал слежавшиеся остатки своего привычного «Севера».
Если так и дальше пойдёт, если сложится всё потом для него неудачно, – то примется, огорчившись, надувшись, отыскивать свои же окурки в пепельнице – глядишь, и хватит ещё на две или даже на три коротких, на нервах, затяжки.
Для поддержания духа, в горький час, у себя и у друга, включил я старый проигрыватель и поставил пластинку – цыганские, весь набор, с перебором, песни и романсы, любимые нами, – в исполнении заграничного, удалого, лихого, буйного, а ля рюс, отчасти, с акцентом, непонятно каким, с оркестром разухабистым, струны рвущим, разрывающим людям сердца во хмелю, в гульбе воспаряющим к небесам, вовсю восхваляющим страстей роковые сплетения и глубины их океанские, на земных просторах широких, в измерениях зазеркальных и в таинственных звёздных высях, певца Теодора Бикеля.
Эту пластинку странную, модную в нашей компании, слушали, под настроение, мы частенько, особенно – выпив.
Заезженная, затёртая, она скрипела, шипела, – и голос певца иностранного с натугой, с трудом немалым, пропадая и возникая, прорывался сквозь скрип и шип.
Но на сей раз нам и цыганщина, понимал я, не помогала.
Уже на третьей, с призывами к неведомым далям, песне выключил я проигрыватель, снял пластинку, ненужной ставшую, молча сунул её в конверт и поставил на полку, к прочим, тем, что были тогда у меня, пусть немногим и тоже заигранным, но зато и хорошим пластинкам, – не до музыки нам, – с глаз долой.
Ворошилов ходил по комнате – и о чём-то сосредоточенно, лоб наморщив и шевеля то и дело губами, думал.
Подошёл он к двери балкона, открытой настежь с седьмого нашего этажа – куда-то туда, в простор, столичный, и подмосковный, а может быть, и вселенский, – и оттуда, из этого радостного, несмотря ни на что, простора, сюда, в эту комнату, к нам, долетал разгонистый, тёплый, но всё-таки хоть слегка освежающий, приносящий с собою некие смутные намёки на что-то хорошее, подбодрить нас, наверно, желающий, приветливый ветерок.
Стоял он в дверном проёме, сутулясь, пристально вглядываясь в одному ему только и видимую сейчас далёкую точку, поверх кварталов жилых и зелёных вершин деревьев.
Потом, в неожиданно плавном развороте, всем корпусом, сразу, повернулся Игорь ко мне.
В глазах его, прояснившихся, загоревшихся жарким пламенем, с нахлынувшим вдохновением, прочитал я тогда – озарение.
– Старик! – сказал Ворошилов и перевёл дыхание с шумом. – Володя! Друг!