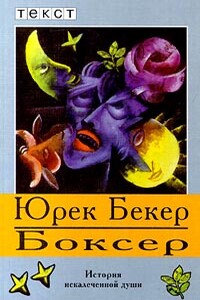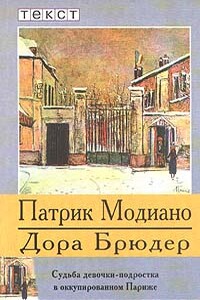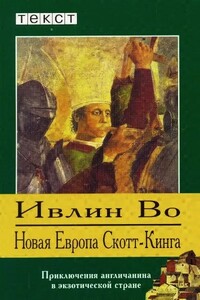Сон о Вольтере | страница 26
С этими словами он делает пируэт вокруг своей трости, смеется, отдает поклон и уходит в дом.
Во все время этой сцены я видел или, скорее, чувствовал, что мадемуазель Од едва удерживается от намерения умолить господина Вольтера составить нам компанию. Она пристально глядит на него, глаза ее блестят, щеки пылают, губы приоткрыты, но лицо разочарованно гаснет в тот миг, как господин Вольтер оставляет нас с носом. В лесу мы находим множество жесткокрылых, и всевозможных еловых бабочек, и Argynnis paphia (так называемый «испанский табак»), свернувшийся по причине сегодняшней жары, и одну довольно редкую аквилегию, которой не хватало в гербарии мадемуазель Од, и даже лисью челюсть без единого зуба.
— Беззубая челюсть. Она мне кое-кого напоминает, — говорю я, глупо ухмыляясь и протягивая находку мадемуазель Од. Дядя мой, занятый размещением своих трофеев по коробкам Кавена, не слышал моих слов, но мадемуазель Од пристально глядит на меня, и в ее взгляде сквозит грусть. И еще — неизбывное одиночество.
Итак, я оскорбил и мадемуазель Од, и господина Вольтера.
Никогда больше, за всю мою последующую жизнь, не доведется мне испытать такой жгучий стыд, как в ту минуту. Лужайка погрузилась во мрак. Мухи жужжат вокруг моей головы, словно вознамерились заключить ее в железный венец, голоса спутников звучат где-то далеко, точно в пустыне… Но вот страшное мгновение истекло. Я прихожу в себя. Вечерний зефир ворошит кроны деревьев, воздух напоен теплом. Мадемуазель Од шагает впереди меня по тропинке, я не могу оторвать глаз от ее гибко колеблющейся талии, от стройных ног под платьем, так легко переступающих через камни и сухие ветки. Мы возвращаемся домой. Вот мы и дома. Фасад Усьера блестит в лучах заходящего солнца. Господин Вольтер сидит в саду, его плечи прикрыты кашемировой шалью, в руках, кажется, книга; он с радостным возгласом вскакивает с кресла и обнимает моего дядю.
XII
Огни сливаются с огнями в моей ослепленной памяти. Что есть греза? Я прочел столько трактатов, ее осуждающих! Будь я святым, мне потребовалось бы огромное мужество или подлинная любовь к мученичеству, дабы продолжать упиваться грезами. Вот он — теплый летний вечер в маленьком загородном поместье, в стране, управляемой Их Превосходительствами, и ничто не привлекло бы нашего внимания к былому видению, если бы в этот час его не озарял огонь самого блестящего ума Европы. Да, нынешним вечером именно здесь, в Усьерском замке, окруженном сумрачными холмами, бурлит радость свободной мысли, звучат пламенные речи, искрится остроумие, сверкают жгучие сарказмы. Этот человек — старый, скрюченный ревматик, иссохший, немощный и беззубый, старая хромающая развалина, старый скелет, все еще лакомый до жизни, старый фанатичный поборник терпимости, старый холерик — то переполнен энергией, то неподвижен, как статуя, но статуя, полная огня, который гаснет — и тут же вспыхивает вновь, умирает — и оживает на наших глазах, сгорает в собственном пламени — и восстает из него, точно птица Феникс! О, в этом полутрупе кипит неистовая жизненная сила!