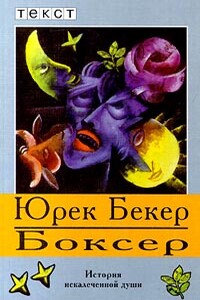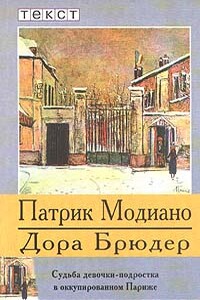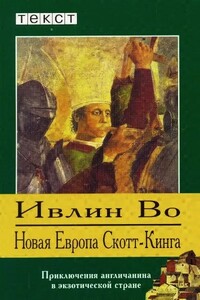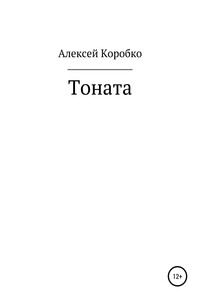Сон о Вольтере | страница 22
X
Что есть сила? Я не знаю. Мне известно лишь одно: я почувствовал силу господина Вольтера в тот самый миг, когда увидел его привставшим с сиденья экипажа, едва остановили лошадей. Слуга Кавен распахнул дверцу, и господин Вольтер с сияющим видом тотчас спрыгнул на песок аллеи, отдал всем низкий театральный поклон и засмеялся своим смехом — теплым и сухим, как летний ветер. Что есть сухой ветер? Я не знаю. Быть может, такой ветер похож на тот, библейский, что, поднявшись, сносит прочь стены и башни.
Итак, он кланяется, он делает пируэт вокруг своей трости, снова кланяется, согнувшись чуть ли не вдвое, но я не слышу скрипа древних костей, а вижу вместо того старого, но весьма крепкого человека, который играет радость жизни, играет учтивость былых времен, играет сердечное согласие с хозяевами дома, играет странствующего философа, играет свой собственный образ, значительный, многогранный и непознаваемый — играет все это с волшебной достоверностью. И мне тотчас становится понятно, что для господина Вольтера эта игра преисполнена блестящей искренности.
И в ту же минуту я понимаю еще одно — его презрение к Руссо, который бранит зрелища и поносит театр, то есть именно всё, что любит господин Вольтер. Ибо театр — это подлинная жизнь, а Руссо видит в нем лишь суетность и лживость. Жалкая близорукость лжесвидетеля, обличающая его самозванство.
Наш гость на аллее, его смех в ярком свете дня, его проворная учтивость, его сухое тело — скелет в слишком просторной одежде. И парик на старинный манер, с заскорузшими от времени буклями, что прыгают по плечам при каждом подскоке его хозяина, чье лицо сверкает острым умом, чьи глаза горят из-под бровей, как два солнца, спорящих своим огнем со слепящим солнцем на небосводе.
Вот картина, о которой я грежу столько лет. Июльский зной, и это золотое, разлитое в воздухе сияние, и люди, недвижно стоящие вокруг оживленного, бурлящего весельем гостя, и этот послеполуденный свет, что рисует и размывает увиденное… Нужно теснее окружить гостя. Нужно войти в дом. Но нет, сперва следует поцеловать ручки дамам. Госпоже Клавель, «философше», и прекрасной Од, чье лицо заливается ярким румянцем, а грудь взволнованно трепещет от магнетической близости гостя. Затем господин Вольтер обращает свой взор на меня (еще один проблеск видения) и объявляет, что мое лицо — зеркало моей души.
Весь вечер в доме звенят голоса, а громче всех — голос нашего гостя, и разносится его смех, и длится его нескончаемый, искрометный спектакль. Здесь присутствуют также несколько близких друзей дяди, среди коих господин Полье де Боттан, пишущий для «Энциклопедии», один профессор права, член Академии, и пастор из Лозанны, — я не упомнил их имена. Господин Вольтер сменил свой дорожный красновато-коричневый костюм на другой — серые чулки, серые же туфли и длинный, до колен, бумазейный камзол. На свой парик он водрузил черную бархатную скуфейку. Он ходит взад-вперед по гостиной, забегает в дядин кабинет, возвращается; его бурная фантазия подобна фейерверку, рассыпающему вокруг слепящие огни остроумия, метких шуток, едких карикатур, забавных импровизаций; он успевает предварить любой аргумент собеседника, но притом польстить его уму, расхвалить все, что он знает, все, что видит, все, что окружает нас. Он возносит хвалу друзьям господина Клавеля.