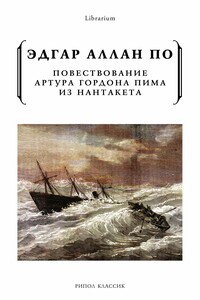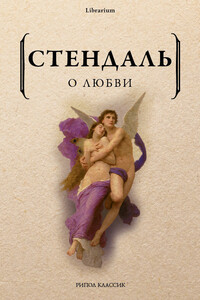О подчинении женщины | страница 70
Влияние женщин и в настоящее время не менее действительно, но только утратило свой резкий и определенный характер, теснее слившись со всею массою общественного мнения. Благодаря невольно прививаемой симпатии, так же как и желанию мужчин блистать в глазах другого пола, женщины много содействуют поддержанию того, что осталось от рыцарского идеала: возбуждая чувства великодушия и мужества и продолжая их предания. Но отношению к этим чертам характера женщины стоит выше мужчин, но в деле справедливости несколько уступают им. Можно сказать вообще, что в частной жизни женское влияние поддерживает краткие наклонности и противодействует грубым, хотя правило это должно быть принято со всеми ограничениями, допускаемыми личным характером. Но при столкновении между интересом и принципом – это составляет самое трудное испытание, какому может подвергнуться добродетель в житейских делах, – направление женского влияния представляет довольно смешанный характер. Когда принцип этот принадлежит к числу тех немногих, которые с силою были привиты к ним религиозным или нравственным воспитанием, женщины являются жаркими поборницами правды и добродетели: очень часто они внушают своим мужьям и сыновьям такие подвиги самоотвержения, к каким те никогда но были бы способны без этого стимула. Но при настоящем воспитании и положении женщин сообщаемые им моральные принципы покрывают лишь сравнительно малую часть в области добродетели и, сверх того, имеют преимущественно отрицательный характер: они запрещают, например, известные поступки, но до общего направления мыслей и целей им нет почти никакого дела. Прискорбно, но едва ли не должно сказать, что бескорыстие в общих интересах жизни – стремление к целям, не обещающим частных выгод для семьи, – чрезвычайно редко поощряется или поддерживается влиянием женщин. По мы и не кладем на них хулы за то, что им не нравятся предметы, в которых их не выучили видеть никакой пользы и которые только отвлекают мужей от них и от интересов семейства. Поэтому в результате является то, что очень часто женское влияние далеко не благоприятствует общественному благу.
Однако с тех пор, как сфера действия была для женщин несколько расширена и многим из них дали практическое дело, выходящее за пределы семьи и домашнего хозяйства, женщины стали иметь некоторую долю влияния на тон общественной нравственности. Женское влияние играет довольно важную роль в двух наиболее заметных чертах современной европейской жизни – в отвращении к войне и в увлечении филантропией. То и другое служит прекрасными характеристическими приметами; но если женское влияние и благодетельно, поощряя чувства эти вообще, то при частных применениях на практике оно действует, по крайней мере, так же часто во вред, как и на пользу. По части филантропии женщины с особенной ревностью поддерживают две ее отрасли – религиозный прозелитизм и дело милосердия. Домашний религиозный прозелитизм есть только другая формула для возбуждения религиозных раздоров; извне – то слепое стремление, очертя голову без всякого знания или взвешивания роковых последствий, какие могут быть произведены употребленными средствами, – роковых для самого предмета религии, также как и для всех прочих частных интересов. Что касается милосердия, то здесь непосредственное действие на людей, им пригретых, и конечное последствие для общего блага могут находиться в полнейшем разладе между собою. В женщинах воспитывается преимущественно чувство, а не ум; такое воспитание, в связи с сообщаемою им привычкою хлопотать только о непосредственном действии добра на человека, а не об отдаленном действии на классы лиц, ведет к тому, что женщины не могут видеть и не хотят допустить, чтобы та или другая форма филантропии или милосердия, гармонирующая с их сострадательными чувствами, в окончательном результате произвела зло. Благодаря женскому горячему участию и женскому подстреканию происходит такая непомерная затрата материальных средств и сострадательных чувств, которые производят зло вместо добра; они постоянно увеличивают ту и без того огромную массу невежественного и близорукого благодушия, которое, принимая под свою опеку жизнь других людей, освобождает их от неприятных последствий, подготовленных их собственными поступками, тогда как это подкапывает самые основания самоуважении, самопомощи и самобытного контроля – этих существенных условий как индивидуального благосостояния, так и общественной нравственности. Дело не в том, что женщины могут ошибаться, заведывая на практике делами милосердия; вообще женщины умеют лучше мужчин вглядываться в настоящий факт, особенно читать в умах и чувствах тех, с кем им непосредственно приходится иметь дело, потому часто случается, что они как нельзя лучше видят деморализующее влияние поданной милостыни или пособия, по этой части женщины могли бы давать уроки не одному экономисту мужского пола. Но, отдавая только деньги и не будучи поставлены лицом к лицу с производимыми этой щедростью последствиями, могут ли женщины их предвидеть? Может ли женщина, родившаяся для настоящего бабьего жребия и довольная им, оценить всю важность самостоятельности? Она сама живет в зависимости; самостоятельности ее не учили; она обречена получать все от других – почему же то, что хорошо для нее, должно быть худо для бедняка? О добром деле она вообще и представить себе не может иначе как о благодеянии, нисходящем от вышепоставленного лица. Ей и на мысль не приходит, что она несвободна, тогда как нищий свободен; она забывает, что если бы бедным давали все, в чем они нуждаются без всяких трудов с их стороны, то никто уже не смел бы заставить их работать, что всякий не может хлопотать о всяком своем ближнем, но какой-нибудь мотив должен понуждать людей заботиться о себе самих, наконец, что доставлять людям возможность помогать самим себе, если они физически к тому способны, – вот единственное милосердие, остающееся в конце концов действительным благодеянием.