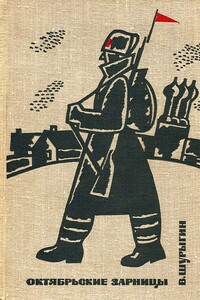Разгуляй | страница 20
Гулкое эхо уносит ввысь каждый шаг, каждое слово. А навстречу эху стремительными потоками льется из-под куполов серебристый свет да проглядывает в щелевидные оконца лазурь небес. И наполнен четверик храма звенящим светом, словно замерло в нем на многие лета могучее спокойствие былых времен. И обрывками истории смотрят со стен редкие, чудом уцелевшие образы. И диву даешься, глядя на эту незатейливую и мудрую простоту, с которой древний безымянный мастер создал свои идеалы чистоты, благородства и крепости душевной. И уже забываешь глухие и безликие росписи XIX века, что оставлены на паперти у входа в храм, не замечаешь громоздкого и тяжелого надгробия на могиле Юрия Долгорукого. Все отступает перед строгой простотой и задушевной лиричностью старых мастеров, что вкладывали в свое дело и разум, и душу, и сердце.
И невольно уносишься в те далекие времена, когда упорный и непреклонный в своих дерзаниях собиратель земель русских простер длань из уделов суздальских к киевскому великокняжескому престолу. Простер длань, а потом и сам пришел, и остался здесь навеки, чтобы и прахом своим напоминать людям о нерасторжимом единстве всех уделов родной земли. Лег в Киеве, чтобы через восемь столетий вновь воскреснуть в основанном им граде.
— Кладка-то какая хитрая. Почему-то наружу проступила, как шрам, — чуть слышно, затаив дыхание, прошептала Зоя.
— Это был, наверное, ход на хоры, — поспешил прокомментировать я и углубился в пояснение древних приемов строительства.
Все настроение слетело мигом. Мы долго потом рассуждали — что, как и почему. Любование красотой кончилось, дальше шел домысел — может, и интересный, но настроение было разрушено. Теперь можно было уходить. И мы ушли…
А вот Лавра, как ни странно, обманула все мои ожидания. Так, наверное, часто случается, когда заранее нафантазируешь себе о чем-нибудь. Я давно мечтал побывать в Лавре. Причем меня манили не только красоты архитектуры, любопытство разжигала таинственная обстановка подземных монастырских поселений. Мне не хотелось верить ни открыткам, ни книгам, ни путеводителям, расписывающим художественное своеобразие лаврского ансамбля. Я жил в своих представлениях, считая, что аскетизм быта древнейшего — да к тому же еще подземного — монастыря должен быть и внешне поддержан духом суровой отрешенности, все здесь должно быть строго и чинно.
Но еще когда мы только подходили к Лавре, мои фантазии начали помаленьку меркнуть. Пышно украшенная лепниной ярко-лазоревая надвратная церковь так празднично сияла на солнце золочеными куполами, будто символизировала вход в обитель радости. Я попытался подавить в себе первые всплески неудовлетворенности и ничего не сказал Зое. А между тем мы шли уже по асфальтированной, тщательно подметенной и размеченной указателями территории Лавры, мимо ласково шелестящих куртин зелени, мимо отреставрированных — словно подрумяненных — строений. И все это купалось и нежилось в ослепительных лучах полуденного знойного солнца. Мы лавировали среди бесчисленных экскурсионных групп, которые, словно волны морского прибоя, перекатывались от одного памятника к другому, и я безучастно поворачивал голову налево-направо, мысленно возвращаясь к той строгой, величественной и непринужденной простоте, которой отмечен каждый камень, каждый свод Спаса-на-Берестове.