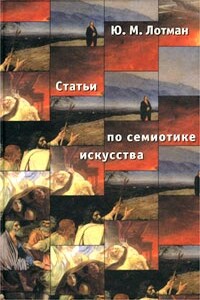Не-мемуары | страница 31
Эта оставшаяся неопубликованной статья — до сих пор у меня самая любимая.
Целые дни я проводил между полок фонда Публичной библиотеки. А между тем события развивались быстро и очень грозно. Началась кампания по борьбе с космополитизмом. Она подкралась для меня как-то незаметно. Сначала были нападки на Эйхенбаума. Но серьезность их как-то не доходила до моего сознания. Тем более что накануне был университетский юбилей, на котором Эйхенбаум получил орден. После первых статей в газетах, воспринимавшихся мной как нелепица, к которой не стоит серьезно относиться, я повторял себе слова из «Макбета»: «Земля, как и вода, содержит газы, и это были пузыри земли». И мне казалось, что лично ко мне это никакого отношения не имеет и все «пузыри» исчезнут так же, как появились.
Однажды, зайдя к Мордовченко (каждое посещение для меня было событием, и прежде чем звонить в дверь, я долго стоял на лестнице и волновался). Я застал его испуганно-встревоженным. Понижая голос, хотя разговор шел в его квартире, он сказал мне, что в Москве арестован еврейский антифашистский комитет. Я совершенно не понял, почему он так взволнован, мало ли кого тогда арестовывали. В дальнейшем события развертывались очень быстро по заранее подготовленной программе.
А я все бегал в библиотеку и в архив. Когда события непосредственно вошли в университетские стены и начались разгромные заседания и проработки Эйхенбаума, Гуковского, Жирмунского и других профессоров, я долго не мог понять, в чем дело (во время проведения кампании из Пушкинского Дома в университет был прислан для «подкрепления» Бабкин, корректор, ставший профессором).
Подробности разгрома университета и Пушкинского Дома достаточно хорошо изложены в материалах, собранных К. Азадовским и изданных в соавторстве с Б. Ф. Егоровым{16}. Поэтому буду касаться только того, что задевало лично меня.
Пришло время распределения. Проходило оно так: комиссия собиралась в главном здании ночью (начинали работать обычно в двенадцатом часу). До этого мы стояли в коридоре и ожидали. Потом отворялась дверь (в ритуал входило, чтобы зала заседаний была густо накурена, поэтому, когда отворялась дверь, оттуда валил дым как из ада). Там сидели Бердников, Федя Абрамов (до этого он был партийный деятель и громила первый номер, потом — известный писатель{17}) и весь состав партбюро.
Меня вызвали, я зашел, на меня посмотрели, хотя они меня знали и я их знал как облупленных, и сказали: «Выйдите, обождите, еще рано» (зачем они меня вызвали, я так и не понял). Был проделан обряд, напоминающий когда-то выдуманный Николаем I, когда приговоренных поляков прогоняли сквозь строй в определенном порядке, так что глава восстания проходил последним и до этого должен был видеть, как забивали до смерти всех его соратников. Наша процедура была менее торжественной, но в ней были свои «пригорки и ручейки». Ленинградских девочек из «комнатных» семей без каких-либо возражений направляли в сибирские деревни или на Дальний Восток. На все это я должен был, ожидая свою очередь, смотреть. Наконец, вызвали меня, посмотрели и почему-то заговорили со мной в третьем лице: «Он пусть придет в другой раз». Кончилось дело тем, что через несколько дней меня вызвали к Бердникову и он сообщил, что мне дают возможность открытого распределения. Когда я спросил Бердникова, где моя характеристика, выданная в бригаде при демобилизации