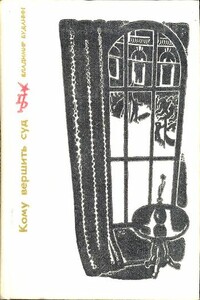Воспоминания | страница 9
Доклады (1914)
Приехав в Питер, мы успокоились, что на фронте дела наши не плохи, и эвакуироваться из Петербурга не нужно. Но оказалось, что из-за войны наблюдения затмения сильно пострадали: А. А. Иванов совсем не поехал в экспедицию, так как единственный сын его был призван в армию. Пулковская экспедиция, правда, выезжала в Ставидлы Киевской губернии, но в момент затмения солнце было за облаком. Г. А. Тихов так был огорчен неудачей, что избегал говорить о затмении. Наша скромнейшая экспедиция собрала научных наблюдений больше всех других благодаря ясному небу и раннему приезду на место работы. Определение широты и долготы места и определение контактов требовали от меня длительных вычислений, что и дало материал для дипломной моей работы. Описание же самого затмения и наших приключений было доложено на заседании Русского астрономического общества М. Н. Абрамовой (от имени Н. М. Субботиной) и мною. Председательствовавший Сергей Павлович Глазенап в заключительном слове отозвался с большой похвалой о нашей работе и обратился с просьбой написать о ней статью для «col1_6». Пришлось его поблагодарить и отказаться, так как такая статья была уже обещана для журнала «Мироведение». Это была первая моя печатная работа[1]. Еще года два я продолжала исполнять обязанности председательницы Астрономического кружка.
Аспирантура (1915–1916)
С 1 января 1915 г. двум закончившим астрономичкам — Е. С. Ангеницкой и мне — было предложено остаться при Курсах «для подготовки к научному званию». Мы получили право работать на рефракторе, занимаясь фотографированием и фотометрией Луны с помощью клинового фотометра. Летом впервые мы обе получили командировку в Пулково, где с нами терпеливо и охотно занимался Г. А. Тихов, обучая фотографированию небесных объектов, наблюдениям на своих приборах и работе в библиотеке. Это лето 1915 г. отмечено еще горестным событием — кончиною 2.VII моего любимого деда-математика, Григория Ивановича Морозова. Его памяти было посвящено заседание РОЛМ с моим докладом о его трудах («Мироведение», № 33).
Зимой 1914–1915 гг. начала я преподавать в средних школах математику и физику. Мой полудетский вид не располагал к хорошей дисциплине в классе, а когда еще я заболела корью (вторично), то в учительской не обошлось без добродушных насмешек на мой счет. В Пулкове мы с Е. С. Ангеницкой снова работали и летом 1916 г., продолжая начатые ранее небольшие исследования. До 1 января 1917 г. жизнь текла по-старому: преподавание в школах, наблюдения на обсерватории, чтение литературы для магистрантских экзаменов; только с продовольствием становилось все труднее. И настроение было у всех тяжелое, предреволюционное.