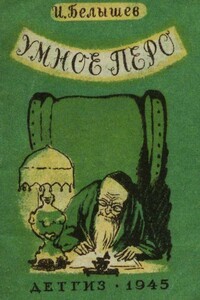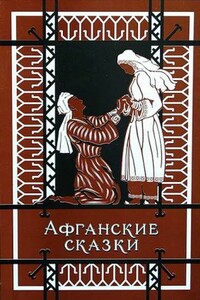Земля светлячков | страница 10
Вошла высокая, прямая, необычайно сухопарая стоусиха. Не сказать бы, что ей девяносто лет, ну разве что от силы семьдесят. Она была вся в чёрном, только белый воротничок облегал её тонкую шею. Да ещё белые серебристые волосы были гладко зачёсаны назад. Говорили, что в молодые годы она ездила в Юхландию, училась там в королевском колледже и, наверное, оттуда привезла некоторую холодность, горделивую осанку и нестоусовскую сдержанность в разговорах и жестах.
— Коро-хоро приготовьте, дорогая Мармусия, так, как я люблю: густенько, густенько и с жёлтой пеночкой! — напомнил ей Сиз.
— Вы хотите сказать, — холодно переспросила Мармусия, — чтобы я влила туда берёзового сока?
— Верно, верно, берёзового сока!
— И добавила каплю тернового молочка.
— Вот, вот, вот! Именно тернового молочка.
— И всыпала немножко тминных зёрен!
— Да-да-да! Именно немножко тминных зёрен!
— И приправила сверху тёртыми орехами?
— Правильно! Правильно, Мармусия! Именно так: когда кофе закипит и начнёт уже густеть, тогда сверху посыпьте, натрясите толчёных орехов, легонько посыпьте, чтобы они, знаете, пудрой, пудрой лежали на жёлтой пенке. Особенно на краях!
— Так вот! — выпрямила спину Мармусия и холодно глянула на Сиза. — Всё это я знаю сама. Знаю с шестнадцати лет, с королевского колледжа. И пора понять: не нужно подсказывать вашей сестре, которая всю жизнь готовит кофе коро-хоро и подавала его самому Чуй-Головану.
Мармусия поджала губы и вышла из комнаты. За ней повеяло холодом и неприступностью.
— Деда, — тихо шепнул Чублик. — А кто такой был Чуй-Голован?
— О-о! — встопорщил брови Вертутий. — Это был величайший на свете сорвиголова, отчаянный смельчак, спортсмен-тарзанник. Прыгал на тарзанке через пропасти. И что вытворял! Однажды, помню, осенью это было, кхе-кхам! Собралось полно лесного народа. И вот он летит на тарзанке, над головами, аж вихрь несётся за ним, и вдруг — хоп! — подхватил Мармусию на лету и через глубоченный каньон на руках перенёс. В воздухе! М-да-а, отлетался, голубчик… Сломил себе голову. Мармусия (слышал, что она была его наречённой) вот уже пятьдесят и ещё тридцать лет не снимает чёрного траурного платья…
Посидели немного молча, каждый углубившись в своё: кто вспоминал рыбу с хитрющим фонариком на носу, кто представлял себе, как сейчас толкутся орешки и сыплются в густой ароматный кофе. А кто просто сидел и философски приговаривал в потолок: «Кхе-кхам!.. Оно что же… Оно, конечно, если то, то оно, конечно, может-таки, и это…»