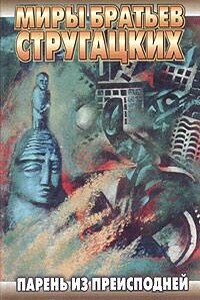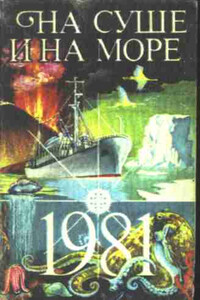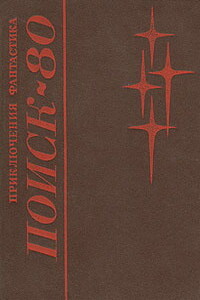Том 3. 1961-1963 | страница 118
— Я абсолютно ни при чем, — сказал директор. — Пусть шлет свои приветы Ламондуа.
— Воистину, пусть! — воскликнул негр.
— Габа, — сказал директор, — ты знаешь о Волне?
— Разве это Волна? — презрительно сказал негр. — Вот когда в стартовую камеру войду я и Ламондуа нажмет пусковой рычаг, вот тогда будет настоящая Волна! А это вздор, зыбь, рябь! Но я слушаю тебя и готов повиноваться.
— Ты с бригадой? — спросил директор терпеливо. Габа молча показал на окно. — Ступай с ними на космодром, ты поступаешь в распоряжение Канэко.
— На голове и на глазах, — сказал Габа. В тот же момент здоровенные глотки за окном грянули под банджо на мотив псалма «У стен Иерихонских»:
Габа в один шаг очутился у окна и гаркнул:
— Ти-хо!
Песня смолкла. Тонкий чистый голос жалобно протянул:
— Я иду, — с некоторым смущением сказал Габа и мощным прыжком перемахнул через подоконник. За окном взревели.
— Дети… — проворчал директор, ухмыляясь. Он опустил раму. — Застоялись младенцы. Не знаю, что я буду делать без них.
Он остался стоять у окна, и Горбовский, прикрыв глаза, смотрел ему в спину. Спина была широченная, но почему-то такая сгорбленная и несчастная, что Горбовский забеспокоился. У Матвея, звездолетчика и десантника, просто не могло быть такой спины.
— Матвей, — сказал Горбовский. — Я тебе правда нужен?
— Да, — сказал директор. — Очень. — Он все смотрел в окно.
— Матвей, — сказал Горбовский. — Расскажи мне, в чем дело.
— Тоска, предчувствия, заботы, — продекламировал Матвей и замолчал.
Горбовский поерзал, устраиваясь, тихонько включил проигрыватель и так же тихонько сказал:
— Ладно, дружок. Я посижу здесь с тобой просто так.
— Угу. Ты уж посиди, пожалуй.
Грустно и лениво звенела гитара, за окном пылало горячее пустое небо, а в кабинете было прохладно и сумеречно.
— Ждать. Будем ждать, — громко сказал директор и вернулся в свое кресло.
Горбовский промолчал.
— Да! — сказал он. — Какой же я невежливый! Я совсем забыл. Что Женечка?
— Спасибо, хорошо.
— Она не вернулась?
— Нет. Так и не вернулась. По-моему, она теперь и думать об этом не хочет.
— Все Алешка?
— Конечно. Просто удивительно, как это оказалось для нее важно.
— А помнишь, как она клялась: «Вот пусть только родится!..»
— Я все помню. Я помню такое, чего ты и не знаешь. Она с ним сначала ужасно мучилась. Жаловалась. «Нет, — говорит, — у меня материнского чувства. Урод я. Дерево». А потом что-то случилось. Я даже не заметил как. Правда, он очень славный поросенок. Очень ласковый и умница. Гулял я с ним однажды вечером в парке. Вдруг он спрашивает: «Папа, что это приседает?» Я сначала не понял. Потом… Понимаешь, ветер, качается фонарь, и тени от него на стене. «Приседает». Очень точный образ, правда?