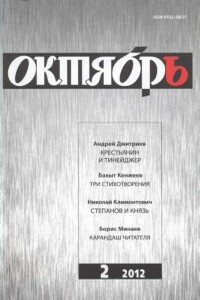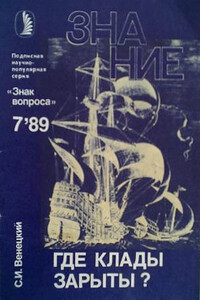Неопавшие листья русского языка | страница 44
Заметим: «ненависть» как (исконно) замкнутость, слепота и незнание превратилось в современном языке в «чувство сильной вражды, злобы» (С. Ожегов). Когда человек говорит «ненавижу» — он признается в том, что не видит и не знает объекта своей ненависти. Он словно бы закрывает глаза и затыкает уши. Он становится страусом, зарывающим голову в песок. Признается в своей полной несостоятельности.
Не надо употреблять слово «ненавидеть» в форме первого лица единственного числа.
И не надо так же употреблять словосочетание «заняться любовью». Потому что это абсурд: это значит либо «заняться половой принадлежностью», либо — «заняться открытостью к миру».
Мы же не «занимаемся дружбой, верой или надеждой». Как, впрочем, и «ненавистью».
МЕЧТА
В современном языковом сознании «мечта» — это прежде всего предмет стремления, желания, воображаемая цель. По всей видимости, понимание мечты как чего-то идеального, которое может воплотиться в реальность, окончательно закрепилось в XX веке. Возможно, большую роль в этом сыграла советская идеология. Ведь «коммунизм» — это «мечта-цель», «идеал-задача», грёза, которая обязательно будет реализована. Мы должны «сказку сделать былью». Любой советский человек должен был мечтать о светлом будущем для всех и о чем-нибудь высоком для себя. Например, стать космонавтом, совершить подвиг и т. п. Не иметь мечты — значит быть приземленным, «ползучим» мещанином-обывателем.
Английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, приехавший в Россию во время революции, написал книгу «Россия во мгле». О Ленине, с которым он беседовал и который рассказал ему о грандиозных планах, поставленных молодым советским правительством, он сказал: «кремлевский мечтатель». И этот эпитет был воспринят как комплимент.
«Мечта» — одно из самых частотных слов советской литературы, причем далеко не только чисто «иделогическо-придворной». Например, Александра Грина с его «Алыми парусами» никак нельзя отнести к официальной литературе «социалистического реализма». Однако образ алых парусов стал одним из популярнейших в детско-пионерской культуре, он превратился в некий «официально-романтический» символ.
История этого корня — своего рода долгий (длившийся не одну тысячу лет) «прорыв» из идеального мира в реальность, из «сказки» — в «быль», из грезы — в действительность.
Древний индоевропейский корень («meik», «meich») имел значение блестеть, мелькать, мерцать. Во многих языках он был осмыслен как подмигивать, искриться, моргать, трепетать. Русское слово «миг», «мигать» (а возможно, и «намекать», «мгла», «мгновение») восходит к той же этимологической базе.