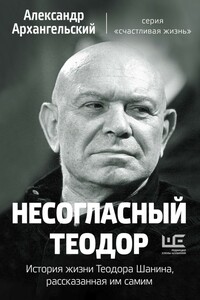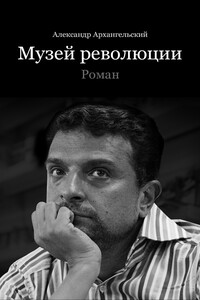Русофил | страница 15
Во Франции ему были рады далеко не все, с распростёртыми объятиями не встретили. Прошло четыре года, прежде чем он смог вернуться на государственную службу, то есть начать преподавать в университете; ему предстояло опровергнуть обвинения. Помог генерал Гуро, военный губернатор Парижа, закрывший “дело Паскаля” на том основании, что Франция и Советский Союз никогда не находились в состоянии объявленной войны, а значит, никакой измены не было.
А по ту, советскую сторону границы он отныне считался врагом, хотя на самом деле был главным другом России. Его тянуло к русским эмигрантам, со многими он дружил, даже был возведён в чин протопопа Обезьяньей Великой и Вольной Палаты Ремизова… И, как мог, следовал первоапостольским принципам в жизни. Своим любимым ученикам Пётр Карлович постоянно говорил:
– Я зарабатываю слишком много денег. Если вам нужны деньги – вот вам. Вы вернёте мне, когда сможете.
Так, спустя годы, он помог мне купить первую квартиру под Парижем, в Saint-Germain-en-Laye, недалеко от университета Нантер, где я какое-то время работал. Мы жили на последнем этаже, окна выходили во внутренний садик, и можно было следить за коляской, в которой спала наша маленькая дочь Анн…
Во второй половине университетского курса Паскаль начал готовить меня к поездке в Россию. Шанс отправиться в СССР имелся: наши страны заключили договор об обмене студентами. С Англией такого договора ещё не было. С Америкой ещё не было. А с СССР – уже был.
Сыграла свою роль союзническая армия де Голля, авиаотряд “Нормандия – Неман”, ну и наши коммунисты кое-что для этого сделали, трудно отрицать.
Благодаря договору во Францию попал будущий великий лингвист и мой друг Андрей Зализняк; за всё время учёбы в École normalе supériorе он ни разу не побывал в советском консульстве, и, когда вернулся в СССР, ему сказали:
– Вот, товарищ Зализняк, вы не ходили в консульство, теперь, уважаемый Андрей Анатольевич, даже не надейтесь второй раз выехать за границу.
Я тоже попал в эту волну обменов, правда не в первую, а во вторую, осенью 1956 года, после XX съезда. Каждому из нас, стажёров, определили возмутительно большую стипендию – 2500 рублей, в десять раз больше, чем советскому студенту, так что я потом с лёгкостью мог одалживать своему соседу по блоку в общежитии Московского университета. Он охотно брал “взаймы”; естественно, это было такое лексикальное объяснение, ничего он возвращать не собирался. Но, повторюсь, стипендия была огромная.