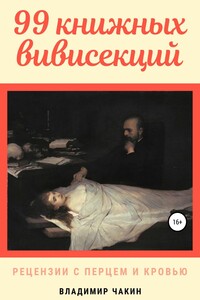Теория и практика создания пьесы и киносценария | страница 64
Интерес Ибсена к проблеме воли указывает на влияние Шопенгауэра, которое ведет к дуалистическому толкованию понятия воли: проблема социальной воли, конкретной борьбы с окружающей средой, растворяется в проблеме искупления, сливается с метафизической волей, пронизывающей всю вселенную. Таким образом, мы находим в «Бранде» мотивы антиинтеллектуализма, неопределенности — те идеи, которые впоследствии Ницше воплотил в своем сверхчеловеке. Жена Бранда, Агнес, утверждает, что интуиция более могущественна, чем разум: «Кто знает? Тут не объяснишь умом... Не родится ль настроенье, как душистая струя в ветра вольном дуновенья?» В своем предсмертном одиночестве Бранд проникается ощущением, что душа его — избранная душа: «Толпы вышли из селенья — не достиг никто вершины!»
В более поздних пьесах, и особенно в последних произведениях, Ибсен возвращается к неуверенности Бранда: «И все ж, когда с душой простой я строг и непреклонен в споре, мне чудится: я в бурном море плыву с разбитою доской...»
Однако через все творчество Ибсена проходит, кроме того, требование разумной воли, придающее ему целеустремленность и мужество. Воля Бранда — уже на половину религия; но, поскольку это все-таки, воля, а не вера, она заставляет его возвращаться к действительности, к борьбе с упрямым миром фактов. В последнем акте, перед тем как его засыпает лавина, одинокому Бранду является видение всего современного мира: «Вижу предков, в бой идущих, вижу братьев, робко ждущих, в щель под шапку-невидимку с рабской лезущих ужимкой... Вижу горшее вдали — все ничтожество земли: хнычут все — мужья и жены, глухи к просьбам и мольбам... Вижу худшие виденья — молний блеск в ночи грядущей, чад британский черной тучей, антрацитовой, летучей, душит, травит все зачатки — зелень пастбищ, нивы, грядки, по стране сочится ядом... Хитроумья волк ярится, лает в ночь кровавой мордой, солнца свет пожрать грозится, клич беды на север мчится, боевым судам у Фьорда охранять велит границы...» Ему является Агнес, она молит его пойти с ней, искать солнце и лето, но он отказывается: он должен «воплотить свои мечты, в яви призрак воссоздать». Видение пытается удержать его: «Пробужденный и свободный, к скачке страхов безысходной ты опять вернешься?» И он отвечает: «Пробужденный и свободный!»
Ибсен остался верен этому решению. Он ни разу не дрогнул в жестокой борьбе за то, чтобы видеть жизнь «свободной и пробужденной». В следующем году он пишет «Пера Гюнта», в котором под другим углом рассматривает проблемы, затронутые в «Бранде». «Пер Гюнт» — произведение гораздо более исполненное жизни и поэтического воображения. В то время как Бранд в основном наполнен отвлеченными рассуждениями, Пер Гюнт выходит в мир, проверяя реальность жизни во всевозможных авантюрных приключениях. Но Пер прежде всего хочет «плыть по реке времен сухим, всецело всегда самим собою оставаясь». Подобно Фаусту Гёте, Пер овладевает всеми чудесами мира; он становится богачом, финансирует войны. Затем он приходит к следующему выводу: «...с карьерою дельца покончил я, и, как лохмотья, сбросил с плеч своих я увлечения любви...» А поэтому не плохо было бы «изучать времен минувших жадность вековую». Он просит Сфинкса загадать ему загадку. Из-за Сфинкса внезапно выскакивает профессор Бегриффенфельд, немецкий философ; профессор — «предаровитый человек, как видно, глубокий ум, что слово — то загадка». Бегриффенфельд ведет Пера Гюнта в каирский клуб мудрецов, который оказывается сумасшедшим домом. Профессор драматически шепчет Перу Гюнту: «Сегодня в ночь, в двенадцатом часу, скончался абсолютный разум». Профессор показывает Перу Гюнту собрание умалишенных: «...каждый является «самим собою» здесь и более ничем; с самим собою здесь каждый носится, в себя уходит, лишь собственного «я» броженьем полон. Здесь герметическою втулкой «я» себя в себе самих все затыкают...»