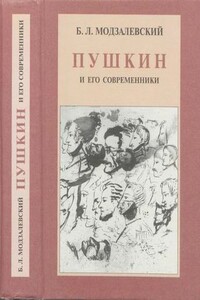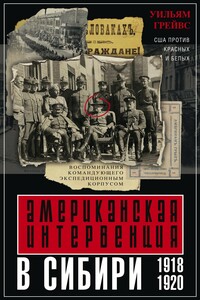Шестой этаж | страница 31
Через несколько месяцев, когда Ахматова приехала в Москву, мы с Галиной Корниловой, которая была с Анной Андреевной знакома и договорилась о встрече, отправились к ней,— Ахматова, как обычно, остановилась у Ардовых. Приняла она нас в маленькой темной комнатке, о которой рассказывается во множестве мемуаров, что избавляет меня от ее описания. Я не видел Ахматову со знаменитых вечеров московских и ленинградских поэтов в апреле 46-го года. Она сильно поседела и располнела. Держалась с царственной простотой — других слов я не подыщу. У нее уже были приготовлены предназначавшиеся «Литературке» стихи — каждое на отдельном листке. Без долгих предисловий протянула листочки: «Читайте». Когда мы, передавая друг другу листочки, прочитали, спросила:
— Годится?
— Да, безусловно,— сказал я и стал благодарить.— Большое спасибо, для газеты это очень важно.
— Понемногу начинаю торговать,— улыбнулась Ахматова.
Фраза была неожиданной, и я ее запомнил. Намеренно или не намеренно, скорее всего намеренно, Ахматова разрушала атмосферу аудиенции у высокого лица, возникшую из-за нашей почтительности и скованности. Визит наш продолжался совсем недолго — полчаса, может быть, чуть больше. Я был очень рад, что получил для газеты подборку стихов Ахматовой, и несколько раздосадован тем, что все произошло быстро, по-деловому, никакого разговора не получилось. А как интересно было бы разговорить Анну Андреевну, но, увы, я не решился...
Это была. по-моему, первая после военных лет газетная публикация стихов Ахматовой. Одно из них — знаменитая «Эпиграмма»:
Могла ли Биче, словно Дант, творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, боже, как их замолчать заставить!
Две последние строки тут же стали поговоркой. Вскоре «Литературка» напечатала в переводе Ахматовой стихотворение Переца Маркиша, но добывал его не я, по-моему, его принесла вдова поэта — отмечалось его 65-летие...
Теперь об Эренбурге. После появления статьи Вайнберга, не сразу, выждав для приличия какое-то время, я позвонил Илье Григорьевичу и попросил принять нас. Он назначил день и час. Решили идти к нему вдвоем — Сарнов и я. Сарнов лучше меня знал раннего Эренбурга, а вдруг разговор зайдет об этом, нельзя ударить лицом в грязь. А главное, вдвоем было не так страшно: честно признаюсь, я боялся этого визита и не очень был уверен в его благоприятном исходе.
Некоторые основания для этого были. Мы шли к сверхзнаменитости, для любого фронтовика, и меня в том числе, он был личностью исполинской, легендарной — не буду распространяться, об этом очень много писали. Так что понятен трепет, который я испытывал. И еще одно — я вспомнил читательскую конференцию в университете, обсуждение «Бури», на котором присутствовал и выступал Эренбург. Он говорил по тем временам вызывающе смело. Досталось тогдашней. ермиловской «Литературке»: «Что такое у нас литературный процесс? — издевательским тоном говорил Эренбург.— Утром в Лаврушинском переулке писатель достает из почтового ящика «Биржевой листок». в котором сообщается, кого сегодня выдвигают. кого задвигают, кто как котируется». Позволил он себе и неслыханный тогда выпад против существующей системы руководства культурой: «Нигде. кроме нас, слово писателя не пользуется таким уважением. Ему иногда придают даже большее значение, чем делу. Это очень лестно. Но зато во Франции никого не интересует, что думает министр культуры о последней театральной премьере».