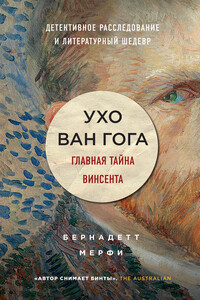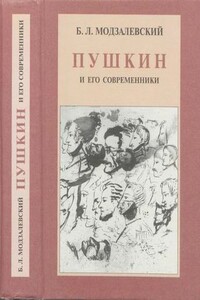Шестой этаж | страница 26
Из нашего обихода ушло слово «самородок», оно утратило свой смысл в 30-е годы: почти вся наша интеллигенция той поры состояла из интеллигентов в первом поколении, но это были в массовом исполнении «выдвиженцы» и «образованцы», отнюдь не «самородки». Откуда у мальчика-сироты (отец погиб на фронте, мать умерла, когда он был школьником), выросшего в доме-развалюхе на московской окраине за Черкизовом, в одном из Зборовских переулков, в доме, где и книг, похоже, не было (а ведь человека подталкивает к его призванию прежде всего домашняя библиотека), такой страстный интерес к литературе? Вырастившая его неродная бабушка, напоминавшая мне добрых и мудрых горьковских старух, по-моему, едва-едва знала грамоту. Рассадин поразительно много успел за школьные и студенческие годы, в газету он пришел человеком глубокой и, я бы даже сказал, рафинированной культуры.
Кажется, Коржавин, который сразу очень расположился к Рассадину, как-то назвал его «Малолеткой». В характере Станислава действительно было что-то неистребимо детское: то, чем он в данный момент был увлечен, становилось обожаемой игрушкой, то, над чем работал, поглощало его полностью, он был по-детски нетерпелив, хотел, чтобы его желания осуществлялись сразу, немедленно, по-детски радовался своим первым публикациям, обижаясь, нередко по сущим пустякам, по-детски надувался. Прозвище это — «Малолетка» — надолго, почти до его седых волос закрепилось в нашей компаши за Рассадиным. Но в нем не было ничего для него обидного, не было возрастного высокомерия старших.
Возрастная иерархия у нас стерлась очень быстро — и не только потому, что все стали на «ты», но и по самой сути сложившихся отношений. Очень сдружились, например, наш «внештатник» Борис Балтер, самый старший из нас, ему было сорок, и тот же Рассадин. И дружба эта была на равных. Отсутствие внутреннего ощущения возрастной разницы приводило даже к комическим ситуациям. Однажды в каком-то споре Балтер стал обличать тех, кто в войну отсиживался в тылу, совершенно не замечая, что его гнев — «все вы» — обращен и на тех, кто по возрасту никак не мог служить в армии. Рассадин, указывая ему на это обстоятельство, заметил насмешливо: «Если ты имеешь в виду меня, то я действительно тогда еще отсиживался. На горшке».
Когда вели предварительные переговоры с Рассадиным, в разговоре всплыло, что нам нужен сотрудник, который занимался бы поэзией, отбором и публикацией стихов. Рассадин сказал, что один из его сослуживцев в издательстве, работающий в редакции братских литератур, молодой поэт, кажется ему очень подходящей кандидатурой на это место. Этого молодого поэта пригласили прийти познакомиться. Помню первое впечатление: какое-то удивительное изящество в жестах, в манере держаться. Он производил приятное впечатление, этот сдержанный, немногословный — любителей витийствовать, отчаянных спорщиков у нас уже было предостаточно,— с грустными глазами и неожиданно быстрой улыбкой парень. Выяснилось, что он фронтовик, что он, Бондарев и я одного года, что в нашей военной судьбе немало общего (потом мы узнали о его трагедии — отец расстрелян, мать долгие годы пробыла в лагере и ссылке). Спросили, чьи стихи он любит,— вкус у него был хороший. Где учился? «Окончил Тбилисский университет. А вообще с Арбата, грузин московского розлива»,— пошутил он. Это был Булат Окуджава.