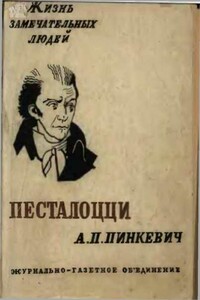Варлам Шаламов в свидетельствах современников | страница 52
Душевного оружия, полученного в детстве, Ирине, наверное, хватит для борьбы с любой «средой». Я – о другом.
Тебе не казалось ли, что кино – штука второго сорта, искусство, не имеющее своего ума, а все свои мерки заимствующее то из литературы, то из театра, то из живописи, то из скульптуры. Что Ирина в любом другом искусстве встретится с подлинниками единственно бессмертного, что есть в жизни, что даже общение потребительское отметит жизнь особой метой. В кино же этих великих подлинников нет. Учеба в худ. институте всегда приобщение к чему-то бесконечно важному, уравнивающему счастье и несчастье. В кино таких вещей нет, как бы ни старались Чаплин и Дисней.
«Интервенция» Славина была единственно хорошей пьесой нашей за 40 лет (кроме, конечно, пьес Булгакова – это дело другого масштаба). Славин написал хорошую повесть «Наследник» и превосходный рассказ «Женщина», столь мало замеченный у нас. Не помнишь? Фабула имеет отношение к кино. А потом Славин погиб в кино, как и Габрилович. Киноинститут обеднит Ирину. Я могу развить это и подробней, но письмо ведь не трактат.
Идешь вот по улице и думаешь: вот и этого не сказал, и того не договорил, и тоже к слову (при твоем рассказе О. И. о нашем знакомстве) не прибавил, что ты была первым человеком на свете, который увидел в моих стихах – стихи. Все говорили совсем не то, не так, не о том, и только ты говорила то, так и о том, показывая на ростки настоящего (редко) и на ненастоящее, чужое, манерное, фальшивое (часто). Я не люблю литературной среды и я – не оттуда, как ты знаешь.
Вот Цветаева написала в хорошем волнении две хороших статьи о Б. Л. («Эпос и лирика» – эту я видел раньше и «Световой ливень».) Она хвалила, казалось бы, предельно, большего пленения, кажется, и представить нельзя, но ведь это – мизерно, ничтожно по сравнению с тем, кто он такой и что он такое. Что он в миллион раз богаче, нужней (и не туда нужней), чем думает Цветаева при всей своей восхищенности и преклонении. Ясно, что русская поэзия XX века готовит два имени – Блока и Пастернака. Я-то и сравнивать их не могу – ибо то, что встало и что надо было разрешить Пастернаку, не идет ни в какое сравнение с нехитрой по сути дела (по тому грозному и наивному времени) коллизией Блока с жизнью. Совсем другие задачи, другие масштабы даны, другая воля, другие душевные силы нужны.
Для меня предсмертная просьба Пришвина о личном свидании с Б. Л. больше значит, чем эти две цветаевские статьи.