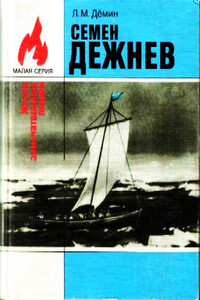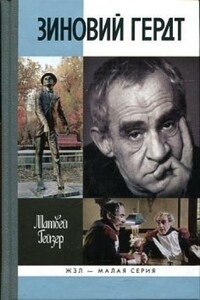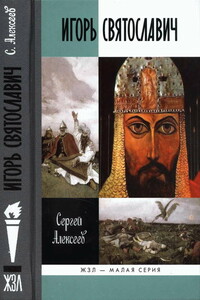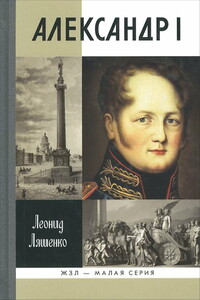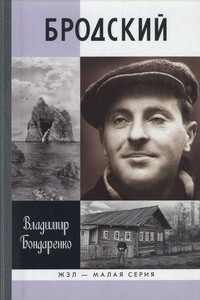Северянин: "Ваш нежный, ваш единственный..." | страница 67
— Фелиссочка!..
Любивший и любящий тебя —
грешный и безгрешный одновременно — твой Игорь.
20 марта 1935 года. Фелиссе.
Встал с постели только для того, чтобы написать тебе, дорогая Фелисса, эти строки. У меня грипп. Сегодня уже 38. Я прошу у тебя разрешения, как я только поправлюсь, встретиться: необходимо мне это. Я привык считаться с твоими словами. Ты запретила. Теперь разреши ради Бога. <...>
Сейчас ложусь опять: знобит, плохо, принимаю много лекарств, болит мозг. Любящий тебя
Игорь.
1 августа 1935 года.
Дорогая моя Фишенька, сегодня день рождения Вакха, и я поздравляю тебя. <...> Мне очень трудно было столько времени не писать тебе, как я собирался и обещал, но А.Э. (вероятно, А.Э. Шульц. — В.Б.) сказал мне еще в первый приезд, что ты не веришь ни одному моему слову и хохочешь над моими письмами. Это меня обидело. Но день и ночь я только и думаю о тебе. Недели через 2?— 3 кончается сезон и В<ера> Б<орисовна> уезжает на службу. Я остаюсь совершенно свободен, т. к. в Ревель ни за что не поеду с нею. <...> Я страдаю от одиночества духовного, от отсутствия поэзии и тонких людей. Неприятности бывают частые и крупные. Это лето вычеркнуто из моей жизни. Тяжело мне невыносимо. Я упорно сожалею о случившемся. И с каждым днем все больше. Больше месяца нет писем от нашей милой Л.Т. На днях я написал ей вновь — зову приехать и помочь мне найти покой и твое прощение. Иначе я погибну. Целую тебя нежно, дорогой и единственный друг мой. О тебе лучшие грезы и вечная ласка к тебе. Твой всегда любящий тебя Игорь.
19 апреля 1936 года. Фелиссе.
В этот раз ты поступила со мною бесчеловечно-жестоко и в высшей степени несправедливо: я приехал к тебе в страстную Господню пятницу добровольно и навсегда. Моя ли вина в том, что разнузданная и неуравновешенная женщина, нелепая и бестолковая, вызывала меня по телефону, слала телеграммы и письма, несмотря на мои запреты, на знакомых? Моя ли вина в том, что она, наконец, сама приехала ко мне, и я случайно, пойдя на речку, встретил ее там? Я ни одним словом шесть дней не обмолвился ей и послал ей очень сдержанное и правдивое письмо. Только накануне ее приезда, и, следовательно, если бы она не приехала в четверг, она получила бы утром в пятницу мое письмо и после него уже, конечно, не поехала бы вовсе, ибо мое письмо не оставляло никаких сомнений в том, что ей нужно положиться на время до каникул, т. е. 25 мая, и тогда выяснится, смогу ли я жить с ней или вернусь. И конечно, к 25 мая я — клянусь тебе — написал бы ей, что не вернусь. Я, Фишенька, хотел сделать все мягко и добросердечно, и ты не поняла меня, ты обвинила меня в предумышленных каких-то и несуществующих преступлениях, очень поспешила прогнать меня с глаз долой, чем обрекла меня, безденежного, на унижения и мытарства и, растерянного, измученного, не успевшего успокоиться, передохнуть и прийти в себя, бросила вновь в кабалу к ней и поставила в материальную от нее зависимость. <...> Зачем ты, Фишенька, так поступила опрометчиво и зло?! Что ты сделала, друг мой настоящий, со мною? Ведь, вполне естественно, что я страдал, получая от нее известия о ее болезни: меня мучила совесть и жалость. Но постепенно я успокоился бы, и все прошло бы, и ее письма на меня перестали бы оказывать действие. А ты не дождалась, ты поспешила от меня отречься. <...> Спаси меня — говорю тебе тысячный раз! Ее приезд доказал мне, что ей верить ни в чем нельзя, что она даже в болезнях лжет. <...> Любящий тебя одну Игорь.