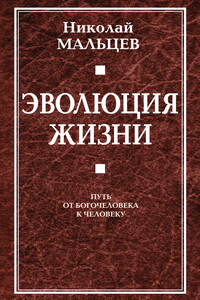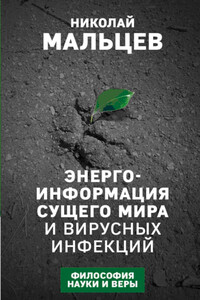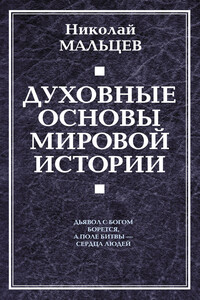Хроника духовного растления. Записки офицера ракетного подводного крейсера «К-423» | страница 53
Глава 6. Гарнизон Гаджиево и парадная сторона блатного мира
Без блата и без соответствующих рекомендаций, как в уголовном мире, так и в государственной системе номенклатурной иерархии, даже при самых лучших деловых качествах проникнуть к вершинам власти было невозможно. Приведу пример из своей офицерской жизни. Когда мы вместе с личным составом, после обучения в Палдиски, прибыли в начале 1970 года к месту службы в гарнизон Гаджиево, то наш экипаж зачислили в 19 дивизию атомных подводных лодок Северного флота, которой командовал молодой капитан 1-го ранга Чернавин Владимир Николаевич. Своей лодки у нас еще не было, мы ее должны были получить на северодвинском машиностроительном предприятии чуть позже, а пока прибыли на базу для практической отработки выходов в море с другими экипажами в качестве дублеров. Нам выделили одно на всех, для офицеров и матросов всего экипажа, казарменное помещение. Квартиры дали только командиру капитану 1-го ранга Кочетовскому и замполиту капитану 2-го ранга Чиркову. Отдельного помещения не было, и весь мичманский и офицерский состав экипажа атомной лодки разместили вместе с матросами срочной службы на двухяросных койках и с типовыми тумбочками для туалетных принадлежностей. Для того чтобы посещать лодки, на которых установлены атомные реакторы, каждому члену экипажа выдали тонкую репсовую одежду из синей ткани, которая призвана защищать чистую одежду подводника от радиационного загрязнения. Эту потенциально «радиационно-грязную» одежду запрещено хранить не только в тумбочке с туалетными принадлежностями, но и в жилых помещениях. Хранится она в нежилом помещении, которое называется санпропускником. Прежде чем посетить подводную лодку, весь экипаж должен зайти в свое помещение санпропускника, оставить в отдельном шкафу свою чистую верхнюю одежду, переодеться в синее «РБ» и только потом следовать на лодку. При возвращении в казарму или при переходе на береговой камбуз для приема пищи процедура переодевания повторяется в обратном порядке. Экипаж поднимается в помещение санпропускника, оставляет «грязное» «РБ» в грязных шкафчиках, а из чистых шкафчиков забирает свою чистую военную форму и следует в казарму или на камбуз. Но санпропускник нам выделить или забыли, или он был занят каким-то другим экипажем. Мы ежедневно ходили для тренировок и обучения на подводные лодки 19-й дивизии, а грязную одежду «РБ» за неимением другого места начальник химической службы старший лейтенант Клищенко, по согласованию с командиром, разрешил хранить в прикроватных туалетных тумбочках. Конечно, это было грубейшим нарушением техники радиационной безопасности, потому что радиоактивная грязь с одежды «РБ» могла через зубные щетки попасть внутрь организма человека или стать источником радиационного заражения жилой казармы и отрицательно повлиять на здоровье всего экипажа. Можно было складывать одежду «РБ» на пол, под койки, но это было «неэстетично», и потому командир принял самое эстетическое, но самое опасное для здоровья решение. Офицеры жили в казарме с рядовыми матросами и пользовались с ними одним туалетом на десять посадочных мест и одним умывальником с таким же количеством кранов. Помывка и туалет происходили по общей очереди. Я думаю, что даже в самом захудалом подразделении сухопутных сил такого безобразия не было, а ведь мы были стратегической элитой государства. Высшей роскошью являлся бильярдный стол, который стоял в центре казармы. Еще были шахматы и телевизор. Вот и все развлечения для свободного времяпровождения как рядовых моряков, так мичманов и офицеров. Естественно, что в воскресенье все офицеры и мичманы разбегались по своим знакомым, которые прибыли в гарнизон раньше нас и уже жили с подселением в служебных квартирах гарнизона. Дефицит жилья был таков, что не более 30 % офицеров командного звена подводников был обеспечен жильем, а все остальные были вынуждены жить в казарменной зоне. В один из воскресных дней я нес службу «обеспечивающего» офицера, в задачу которого входило круглосуточно находиться в казарме вместе с личным составом срочной службы, поддерживать в казарме порядок, а также сопровождать строевое перемещение личного состава для приема пищи и обратно и проводить вечернюю поверку. Неожиданно в казарму для проверки прибыл командир дивизии капитан 1-го ранга Чернавин. Я ему представился по установленной форме, он обошел помещения казармы и был вполне удовлетворен чистотой и состоянием помещений и порядком в казарме. Уже собираясь покинуть казарму, комдив заглянул в одну из тумбочек и остолбенел от удивления, увидев в тумбочке аккуратно сложенную грязную рабочую одежду, помеченную штампом «РБ». Не поверив своим глазам, комдив открыл еще несколько тумбочек, но в каждой из них находилась одежда «РБ», что противоречило всем нормам и правилам радиационной безопасности и угрожало здоровью членов экипажа. «Кто это приказал?» — спросил меня комдив? Я ответил, что по согласованию с командиром экипажа размещал одежду «РБ» в тумбочки начальник химической службы старший лейтенант Клищенко. «Вы, обеспечивающий офицер, разве не знаете, что это есть грубое нарушение радиационной безопасности?» Я ответил, что знаю. Уже в гневе, комдив спросил меня: «Если знаете, то почему не устранили грубое нарушение?» Изменять приказания командира никакой обеспечивающий офицер не имеет права. К тому же грязную одежду в жилую казарму пришлось поместить, так как командование флотилии и дивизии не выделило нашему экипажу помещения на санпропускнике, и мы были вынуждены переодеваться прямо на борту подводной лодки. Но это я так подумал, а отвечать в таком тоне комдиву было бессмысленно. Я промолчал, и командир дивизии отстранил меня от дежурства. Это, конечно, наказание, но не очень тяжкое. Все мы жили в казарме, и не имело разницы, ведешь ли ты строй моряков на камбуз и обратно или идешь в одиночку без строя. Но было обидно за несправедливость наказания, так как в нарушении режима радиационной безопасности никакой своей вины я не видел. Комдив еще минут пять быстрыми шагами ходил взад и вперед по казарме, затем остановился напротив меня и приказал: «Ладно, продолжайте дежурство». Это приказание произвело на меня сильное и приятное впечатление. Не каждый офицер способен отменить ради справедливости ошибочное мелкое распоряжение. По ходу дальнейшей службы я неоднократно убеждался, что командир нашей дивизии Чернавин Владимир Николаевич был грамотным, инициативным и вполне справедливым офицером. Так подробно я остановился на этом по той причине, что комдив Чернавин Владимир Николаевич, по слухам, был женат на дочери или племяннице члена Политбюро Мазурова, а значит, по номенклатурным законам занимал самую высшую ступень иерархической лестницы, выше которой могло быть только родство с генеральным секретарем партии. С Чернавиным нам и флоту в целом очень повезло, так как это был человек, достойный во всех отношениях. В то же время через него и его супругу о состоянии дел в гарнизоне Гаджиево наверняка было известно и в Политбюро СССР. Но что это меняло? Разве страна была настолько бедной, чтобы не построить 15–20 жилых домов в гарнизоне и сразу же решить бытовые проблемы офицерского и мичманского состава семей подводников? Страна имела такие возможности, но дело не в возможностях, а в тайной политике самой КПСС. Бытовая необустроенность принуждала офицерские и мичманские семьи к искусственному разделению семей. Жены и дети, тоскуя по мужской и отцовской ласке, снимали углы по городам России, а офицеры и мичманы бежали по вечерам в кафе гарнизонного дома офицеров и заливали свое молодое одиночество вином и водкой. Гарнизон был отрезан от большой земли и даже от ближайшего города Полярного. Не было никакого общественного транспорта и внутри гарнизона. Помню, когда по воскресеньям и субботам в сильном подпитии офицеры добирались пешком из кафе до казармы, то не было сил раздеться, и многие так и падали в свои двухъярусные койки в шинелях поверх заправленных синих одеял. Штаб флотилии размещался в небольшом трехэтажном здании, а штаб нашей 19-й дивизии, которой командовал капитан 1-го ранга Чернавин В.Н., размещался на финской плавказарме, которая числилась как ПКЗ-145. Финны изготовили ее по заказу СССР якобы для проживания бригад лесорубов на сплавных реках, а страна использовала их для военных целей. Я слышал, что финское правительство даже высылало по этому случаю официальные ноты протеста. Тем не менее, финские ПКЗ (плавказармы) были самым комфортабельным и роскошным жильем, где каждый офицер имел отдельную каюту, а также имелась прекрасная финская баня и небольшой бассейн. Но на ПКЗ размещался штаб дивизии и жили только флагманские специалисты и командование дивизии, а офицеры-подводники лишь по договоренности с обслуживающим персоналом иногда могли небольшими группами по вечерам посещать сауну и бассейн. При каждой атомной подлодке по штату был приписан легковой автомобиль УАЗ — для перевозки командования и секретных документов. Но фактически все эти автомобили уходили в органы тыла и обслуживали руководство тыловых подразделений, а может быть, возили горячих горцев кавказского региона. Кто знает? Нередко можно было наблюдать, как какой-нибудь откормленный тыловик, мичман или капитан проезжал мимо нас в новеньком УАЗе, а командир корабля и командиры боевых частей с папками совсекретных документов тащились своим ходом с секретной части штаба дивизии на свой корабль. Да и в штабе дивизии, где по штату положено три контр-адмирала, было всего два УАЗа. Вообще, не только командиры, но и все офицеры и мичманы плавсостава были поставлены в унизительное и неравное отношение по сравнению с тыловыми службами обеспечения и работниками политотдела 3-й флотилии атомных подводных лодок Северного флота, которая и базировалась в гарнизоне Гаджиево. Но надо сказать, что хотя всеобщее пьянство уже начинало разъедать моральный дух офицеров и мичманов, но никакого воровства имущества и продуктов питания в 70-х годах прошлого столетия на лодках не замечалось. Весь личный состав, от рядового матроса до командира, получал все необходимое имущество. От обмундирования до разового белья, морских пилоток и красивых кожаных тапочек с отверстиями — для перемещения внутри прочного корпуса подводной лодки. Такой же полнотой отличался и рацион питания, как на берегу, так и в море. На берегу офицеры и мичманы обязаны были принимать трехразовое питание на береговом камбузе в отдельной кают-компании, а в море обеспечивалось фактически четырехразовое питание, так как можно было второй смене принимать пищу в 3 часа 30 минут утра, перед заступлением на вахту, а также завтракать, обедать и ужинать по распорядку дня. Даже выход на боевую службу могли отложить на пару дней, если на борт подводной лодки не успели, например, загрузить апельсины. Сухое вино, красная икра входили в ежедневный рацион питания подводника, и все это выдавалось по нормам снабжения каждому матросу и офицеру. Конечно, тыловики тоже «отоваривались» за счет подводников, но или их было поменьше, или снабжение было безлимитным и сверхнормативным, но с вещевым и продовольственным снабжением проблем не было. Однако через пять-шесть лет вирус воровства стал проникать не только в органы тыла, но и в ряды интендантов подводных лодок и командования. В это время на каждый корпус подводной лодки предусматривалось по штату два экипажа. Один экипаж держал подводную лодку, а другой находился в отпуске, а после отпуска нес наряды по гарнизону, работал на камбузе, убирал территорию военного городка и нес еще столько различных дополнительных нарядов, что времени на боевую подготовку вовсе не оставалось. Тяжелую нагрузку из нарядов и вахт нес и тот экипаж, который держал подводную лодку на базе.