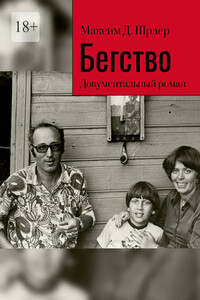Генрих Сапгир. Классик авангарда | страница 31
Вот концовка псалма у Сапгира (у Сапгира 6, а не 9 частей):
Поэт и литературовед Данила Давыдов вспоминает организованное им выступление Сапгира перед студентами Литературного института в Москве, в конце 1990-х годов: «Большей части аудитории (в которой православных было отнюдь не большинство) показалась кощунственной последняя фраза сапгировского „Псалма 136“<…>. Меж тем, это почти дословная цитата [в отличие от тех огромных отступлений, которые Сапгир позволяет себе в других частях этого псалма и других псалмах] из канонического текста»[196]. Те глубинные — и тормозящие рецепцию читателей — механизмы привычного прочтения религиозных текстов в контекстах русской литературной культуры, на которые указывает Д. Давыдов, действуют при прочтении «Псалмов» Сапгира. Для их адекватного, неопосредованного осмысления лучше всего обратиться прямо к библейскому тексту, а уже потом восстанавливать различные пласты истории и культуры, которые питали тексты переложений Сапгира.
Вавилон «Псалмов» Сапгира — Россия. Вместо древних израилитов в них действуют современные Сапгиру советские евреи. Псалмопевец Сапгира — Овсей Дриз, пьяница («шиккер»), поэт-пророк в стране, в которой к началу 1950-х была обескровлена еврейская культура. «Псалмам» Сапгира принадлежит особое место в мировой поэзии. По масштабу и радикальности переработки иудейских священных текстов, а также по степени внедрения в них реалий современной истории, политики, идеологии и повседневного быта эту книгу можно сопоставить с циклом Аллена Гинзберга «Каддиш» (1959): Вот начало поминального цикла Гинзберга: