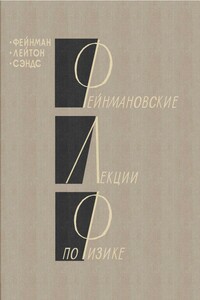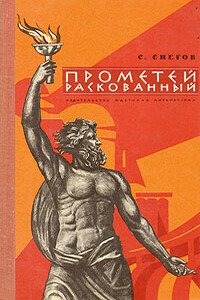История принципов физического эксперимента от античности до XVII века | страница 5
В таком случае, очевидно, нельзя просто воспользоваться существующим понятием, чтобы с его помощью исследовать исторический материал. Чтобы исторический анализ мог быть продуктивным, чтобы наше представление о сущности эксперимента, о его отношении к практической деятельности, наблюдению, теоретическому мышлению могло всерьез измениться или обогатиться в результате исторического исследования, нужно заранее сделать это вообще возможным. Нужно, иными словами, освободить наше представление об экспериментальной деятельности от жесткой связи с той или другой ее формой, знакомой нам по собственному случайному опыту.
Речь, далее, идет именно о принципах эксперимента. Многообразие экспериментальной деятельности какой-либо эпохи в истории науки при всей видимой пестроте составляет тем не менее некое единство. Сколь бы случайным и произвольным ни выглядел отдельно взятый эксперимент, он, если только планируется ученым, стоящим на уровне научной культуры своей эпохи, всегда уже связан с множеством других проделанных и проектируемых экспериментов, всегда построен в рамках определенной господствующей теории (пусть даже и для ее радикальной проверки) и в конечном счете составляет деталь в одном большом эксперименте в системе определенной «научно-исследовательской программы» 10 . В зависимости от того, каким образом тот или иной способ теоретического отношения к миру устанавливает сферу знания, мышления в противоположность сфере предметно-чувственного (а в разные эпохи это делалось по-разному), развертывается соответствующая форма экспериментальной деятельности (ее отсутствие тоже ведь определенное решение проблемы эксперимента).
Замысел нашей работы — не просто историческая ретроспектива. Исторический анализ помогает увидеть «невидимые» стороны экспериментальной деятельности, ибо каждая эпоха эгоистична по-своему, она выпячивает и использует те стороны единой научно-теоретической культуры, которые другая эпоха отводит на задний план или вовсе забывает. Мы видим, стало быть, задачу нашего исторического исследования в развертывании на историческом материале свернутых и скрытых сегодня моментов экспериментальной деятельности.
Для обострения (и углубления) проблемы мы берем предельный случай. Мы исследуем такие эпохи, которые, как правило, считались эпохами чисто спекулятивной научной мысли, абстрактного теоретизирования, пренебрегавшего критерием опыта. Создавая такие «искусственные» условия исторического исследования, мы как бы испытываем одновременно и представление о научном мышлении в эпоху античности и средневековья, и представление об эксперименте, почерпнутое из современной науки. В этих предельных условиях отчетливее всего обнаруживаются те стороны экспериментальной деятельности, которые почти нацело исчезли из самосознания физики XVIII—XIX вв., но которые как раз и составляли основную форму экспериментирования, скажем, в античной науке. В качестве примера можно привести такой аспект всякого научного опыта, как мысленный эксперимент с идеализованным предметом 10а . Именно этот момент, как, мы попробуем показать, сосредоточивал в себе почти всю экспериментальную деятельность предшествовавших эпох.