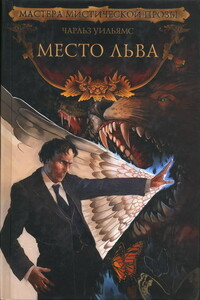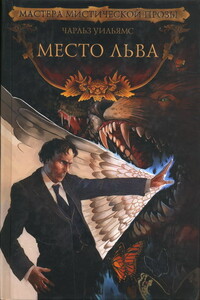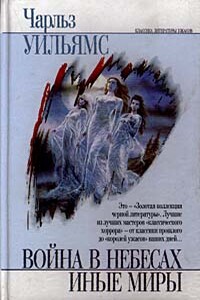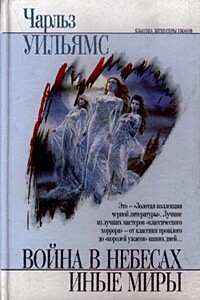Колдовство | страница 41
Обвинений собственно в колдовстве выдвинуто так и не было. Цели ордена в основном касались финансовых операций; ни вызовов демонов, ни злоумышлений на жизнь или собственность других людей выявлено не было. Если и говорили о неких тайных ритуалах, характерных для высших посвящений, то доказательств тому не нашлось никаких. Скорее всего, этих ритуалов и не существовало. Таким образом, орден не был обвинен в сношениях с врагом рода человеческого. Соответственно, Церковь не считала победу над орденом тамплиеров итогом борьбы с колдовством. Однако сам процесс сильно обеспокоил другие тайные секты и подпольные организации.
Разгром тамплиеров организовала и провела инквизиция. Сама работа инквизиции способствовала отождествлению ереси и колдовства. Инквизиция четко разграничивала дела, входившие в ее юрисдикцию, с делами, которые надлежало передавать в епископские или светские суды. Инквизиция имела дело только со «злом ереси»; поэтому любые случаи колдовства заведомо содержали в себе элемент логического противоречия. В ходе любого расследования надлежало в первую очередь выявить, имело ли место участие самого дьявола? Повсеместно считалось, что дьявол может делать только то, что разрешил Бог. Любое предположение о том, что дьявол обладает самостоятельной волей, расценивалось как еретическое. Например, если ведьма приносила жертву дьяволу, то важно было установить, отрекается ли она от Христа только сама по себе, в собственном сердце, и в этом случае она не подпадала под определение еретички, а вот если она отрекалась от Бога в пользу другой самостоятельной силы, обвинение в ереси становилось неизбежным. К разряду ереси относилось также использование священных предметов во время магических ритуалов, а также извращение обряда крещения. Соблюдать целомудрие ради дьявола считалось ересью, вести просто развратный образ жизни по наущению дьявола допускалось, хотя и осуждалось. Впрочем, более осторожные богословы уточняли: исполнение дьявольских приказов еретическим не считалось; а вот исполнение просьб дьявола подпадало под определение ереси >68.
Случаи, связанные с нарушением догматов, отмечены на юге Франции в начале четырнадцатого века, примерно через сто лет после Альбигойского крестового похода. В 1335 году две женщины, Анна-Мария де Жоржель и Кэтрин Делорт, обе из Тулузы, признались (одна после пыток) в ереси и колдовстве. В начале Анну-Марию соблазнил высокий темный мужчина, который пришел к ней «во время мытья»; позже любовник Анны-Марии вовлек в безобразия и Кэтрин. Обе они участвовали в шабашах, ублажали козла и творили всяческие непотребства. Обе верили, что Бог и сатана равны, и что между ними идет вечная война, но вот теперь верх взял сатана. На суде Кэтрин добавила, что антихрист скоро разрушит христианство. Именно подобные случаи давали основание инквизиции рассматривать все формы колдовства. Однако сказывалась нехватка определений ученых богословов. Святой Фома Аквинский считал, что отрицание колдовства тоже своего рода ересь. Он считал недопустимым попытки установления магического контроля над демонами. «Человеку не дано управлять демонами по своему желанию; его обязанность бороться с ними». Парижский университет объявил, что ересь и колдовство есть два самостоятельных проступка, расследование которых, тем не менее, должно осуществляться одним и тем же судом – судом инквизиции. Такое амбивалентное восприятие колдовства характерно для всех средних веков. С одной стороны, силы дьявола предствлялись весьма значительными, с другой стороны, богословы отрицали, что дьявол вообще обладает силой. Они отрицали, что Антихрист вообще может победить, но Кэтрин Делорт сожгли именно за это. Подразумевалось, что предел козням дьявола может быть поставлен только с помощью самых крайних мер. Договор с дьяволом, явный или косвенный, усматривался в любом колдовском действии и, разумеется, признавался признаком ереси. Объединенные усилия инквизиции и богословов закончились принятием решения о том, что договор с нечистой силой есть либо прямая ересь, либо еще более тяжкий грех. Папа Николай V в 1451 году все подобные дела во Франции передавал на рассмотрение инквизиции, даже если они не являлись явной ересью.