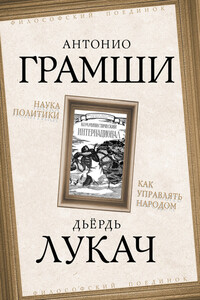Уходящий аромат культуры. Эстетика распада | страница 76
Внимание философа проникает все дальше, но теперь оно направлено не на субъективное как таковое, а сосредоточивается на «содержании сознания» – на интрасубъективном. Выдуманное нашим умом, вымышленное мыслью порой не имеет аналогов в реальности, но неверно говорить о чисто субъективном. Мир иллюзий не становится реальностью, однако не перестает быть миром, объективным универсумом, исполненным смысла и совершенства. Пусть воображаемый кентавр не скачет в действительности по настоящим лугам и хвост его не вьется по ветру, не мелькают копыта, но и он наделен своеобразной независимостью по отношению к вообразившему его субъекту. Это виртуальный или, пользуясь языком новейшей философии, идеальный объект. Перед нами тот тип феноменов, который современный мыслитель кладет в основу своей универсальной системы. И в высшей степени поразительно совпадение подобной философии с современной ей живописью – экспрессионизмом или кубизмом.
Воля к барокко
Любопытный симптом изменения в идеях и чувствах, переживаемого европейским сознанием – мы говорим о том, что происходило еще в довоенные годы, – новое направление наших эстетических вкусов. Нас больше не интересует роман, эта позиция детерминизма, позитивистский литературный жанр.
Факт бесспорный! Кто сомневается, пусть возьмет томик Доде или Мопассана, и он изумится, как мало они его трогают и как слабо звучат. С другой стороны, нас давно не удивляет чувство неудовлетворенности, остающееся после чтения современных романов. Высочайшее мастерство и полное безлюдье. Все, что недвижно, – присутствует, все, что в движении, – отсутствует начисто. Между тем книги Стендаля и Достоевского завоевывают все большее признание. В Германии зарождается культ Хеббеля.
Каково же новое восприятие, на которое указывает этот симптом? Думаю, что изменение в литературных вкусах соотносится не только хронологически с возникшим в пластических искусствах интересом к барокко. В прошлом веке пределом восхищения был Микеланджело; восхищение словно бы задерживалось на меже, разделяющей ухоженный парк и заросли дикой сельвы. Барокко внушало ужас; оно представлялось царством беспорядка и дурного вкуса. Восхищение делало большой крюк и, ловко обогнув сельву, останавливалось по другую ее сторону, там, где в царство искусства вместе с Веласкесом, казалось, возвращалась естественность. Не сомневаюсь, что стиль барокко был вычурным и сложным. В нем отсутствуют прекрасные черты предшествующей эпохи, те черты, которые возвели ее в ранг эпохи классической. Не буду пытаться хоть на мгновение возвратить в полном объеме права художественному периоду барокко. Не стану выяснять его органическую структуру, как и многое другое, потому что и вообще-то толком не известно, что он из себя представляет. Но, как бы то ни было, интерес к барокко растет с каждым днем. Теперь Буркхардту не понадобилось бы в «Cicerone» просить прощения у читателей за свои занятия творениями семнадцатого века. И хоть нет у нас еще четкого анализа основ барокко, что-то притягивает нас к барочному стилю, дает удовлетворение; то же самое испытываем мы по отношению к Достоевскому и Стендалю.