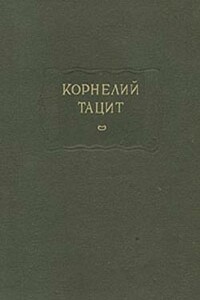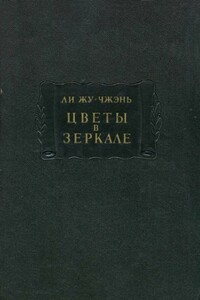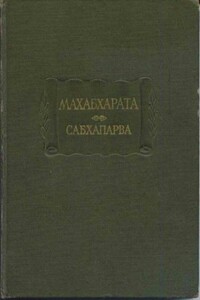Мишель Монтень. Опыты. Книга третья | страница 21
Но что действительно заслуживает настоящего осуждения — и что касается повседневного существования наших людей, — это то, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении — шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же болезненно и преступно, как и их грех. Иные, связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки, уже не видят в нем никакого уродства. Других (я сам из их числа) порок тяготит, но это уравновешивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценою того, что грешат пакостно и трусливо. И все же можно представить себе такую несоизмеримость удовольствия и греха, что первое — это можно сказать и относительно пользы — с полным основанием извиняет второй, и не только в том случае, когда удовольствие примешивается случайно и не имеет прямой связи с грехом, как при краже, но даже если оно неотделимо от греховного деяния, как при сближении с женщиной, когда вожделение безгранично, а порою, как говорят, и вовсе неодолимо.
Побывав недавно в Арманьяке и посетив поместье одного моего родственника, я видел там крестьянина, которого никто не называет иначе, как «вор». Он рассказывает о своей жизни следующее: родившись нищим и считая, что зарабатывать хлеб трудом своих рук — значит никогда не вырваться из нужды, он порешил сделаться вором и всю молодость безнаказанно занимался этим своим ремеслом, чему немало способствовала его огромная телесная сила; он жал хлеб и срезал виноград на чужих земельных участках, проделывая это где-нибудь вдалеке от своего местожительства и перетаскивая на себе такое количество краденого, что никому и в голову не приходило, будто один человек способен унести на плечах все это в течение одной ночи; к тому же он старался равномерно распределять причиняемый им ущерб, так чтобы каждый в отдельности не испытывал слишком чувствительного урона. В настоящее время он уже стар и для человека его сословия изрядно богат, чем он обязан своему прошлому промыслу, в котором признается с полною откровенностью. Чтобы вымолить у бога прощение за подобный способ наживы, он, по его словам, что ни день оказывает всевозможные благодеяния потомкам некогда обворованных им людей, дабы возместить свои былые покражи; и если он не успеет закончить эти расчеты (ибо наделить разом всех он не в силах), то возложит эту обязанность на наследников, учитывая то зло, которое он причинил каждому и размеры которого известны лишь ему одному. Если судить по его рассказу, правдивому или лживому — безразлично, он сам смотрит на воровство как на дело весьма бесчестное и даже ненавидит его, однако менее, чем нужду; он раскаивается в нем как таковом, но поскольку оно было описанным образом уравновешено и возмещено, он в нем отнюдь не раскаивается. В данном случае нет той привычки, что заставляет нас слиться с пороком и приспособлять к нему даже наше мышление; здесь нет того буйного ветра, который время от времени проносится в нашей душе, смущая и ослепляя ее и подчиняя в это мгновение власти порока.