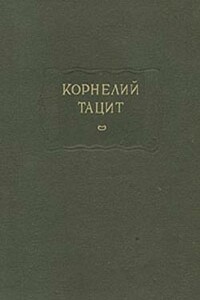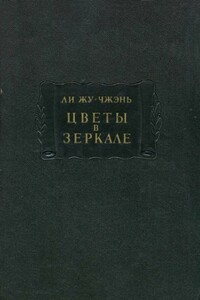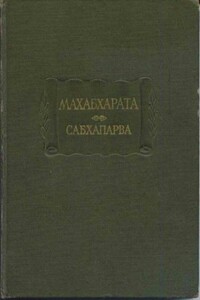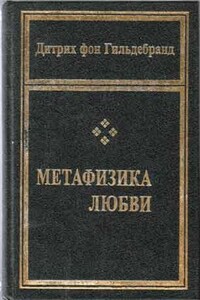Мишель Монтень. Опыты. Книга первая | страница 59
Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока низвергнуть все то, что воздвигалось ею самою годами; и это заставляет нас воскликнуть подобно Лаберию [216]: Nimirum hac die una plus vixi, mihi quam vivendum fuit [217].
Таким образом, у нас имеются все основания прислушиваться к благому совету Солона. Но поскольку это философ, для которого милости или удары судьбы еще не составляют счастья или несчастья, а высокое положение или могущество не более, как маловажные случайности, я считаю, что он смотрел глубже и хотел своими словами сказать, что не следует считать человека счастливым, — разумея под счастьем спокойствие и удовлетворенность благородного духа, а также твердость и уверенность умеющей управлять собою души, — пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем возможна личина. Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более, как заученный урок, и всякие житейские неприятности очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие. Но в этой последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству; приходится говорить начистоту и показать, наконец, без утайки, что за яства в твоем горшке: